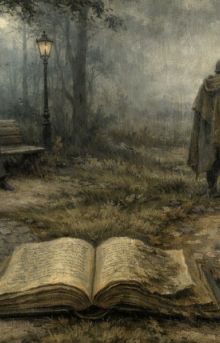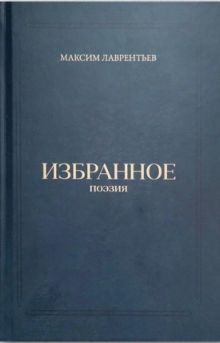Четвёртый год сводки новостей, речи стратегов и харизматиков, тексты военкоров и телеграм-реплики фронтовиков – истинная словесность нашего времени. Так как все они о действительном эпосе, о жизни и смерти сражающихся или бегущих современников, променять их на искусство не представляется возможным. Разбавить, совместить – тоже трудно. Читать произведения о специальной военной операции мне не хотелось. Зачем двигаться к правде таким обходным путем? Гениев литературы сейчас нет, а если и есть – не художественные миры создают, а ушли в философию истории и публицистику.
И все же я решился начать чтение новейшей военной прозы, когда главным победителем национальной премии «Слово» стал Дмитрий Филиппов с романом «Собиратели тишины». С него и стартовал. Потом были «Ромаядины» и «Первый пленный» Алексея Шорохова, «Донецкое море» Валерии Троицкой, «Я здесь не женщина, я фотоаппарат» Анны Долгаревой, «Дневник добровольца» Дмитрия Артиса, «Моя Новороссия. Записки добровольца» Евгения Николаева, «Как исчезает дым» Платона Беседина.
Филиппов, Шорохов, Артис, Николаев ушли на фронт добровольцами. Шорохов был демобилизован после тяжелого ранения. Филиппов и Николаев продолжают оставаться на передовой. Долгарева и Троицкая - журналисты. Однако это слишком скромная и недостаточная характеристика. Особенно для Анны Долгаревой, которая и поэт, и волонтёр, и военный корреспондент. Севастопольца Беседина нельзя назвать мастером военной прозы, он не пишет о сюжетах линии боевого соприкосновения. При этом «Как исчезает дым» в нашем исследовании занимает уж точно не последнее место. Иногда контекст войны больше говорит о трагедии 2020-х, чем сама война! Да и подзаголовок этого материала специально расширяет проблему до «эпохи СВО».
Когда произносишь приведенные имена и названия, будь готов встретиться с гордыней ряда профессионалов-гуманитариев: «Не наша война, в ней всё неправильно! Не наша поэтика: никто из Z-авторов не сравнится ни с Водолазкиным, ни с Варламовым, ни с теми, кого назвали иноагентами! Они - мастера-художники, а о нынешней войне пишут милитаристы, делающие имя за счёт пропагандистской риторики». Многих интеллигентов тошнит от неожиданного времени и постоянного страха. Вроде бы замечательно шла операция по демонтажу тоталитарных дискурсов силами постмодернистской деконструкции, но вместо либеральной постистории вдруг пришла война!
В книге Евгения Николаева встретил слова, предлагающие оценить тяжесть расширяющейся спецоперации. Прежде всего ее вытягивают на себе те, кто родился в 70-х и 80-х годах. Драма заключается в том, что Советский Союз «разбазарили» их отцы, а уже собственные дети «спрятались в тик-ток пещерах». Следовательно, поколение сорокалетних – последний шанс для России.
Новая русская проза о войне ставит зеркало перед всем литпроцессом последних десятилетий. Это зеркало реальности, полное боли и смерти, часто показывает толпу говорливых аутсайдеров – завязанных на методиках высших литературных курсов, на проектности, рекламе и трансформации катарсиса в релаксацию. Особенно печально выглядят молодые женщины, когда хотят стать модными. Есть у нас такой полюс литературы, где свои дивиденды получают Яна Вагнер, Ася Володина, Анна Чухлебова. На их фоне даже Оксана Васякина с очередной «Розой» смотрится возможной для воссоздания травмой. Но не является ли Гузель Яхина самым звучным и удобным именем для подобной упаковки печатной продукции?
Чухлебова «владеет легким способом завязать с сатанизмом». У Троицкой и Беседина женщина превращается в центр такого глобального и глобалистского дионисийства, что дьявол может считать себя частично воплощенным. Такова Лариса в «Донецком море»: баба с отточенным эгоцентризмом, с быстрым превращением любви и простой совместности в вопрос о четкой прагматике, с ненавистью к мужу-ополченцу Олегу и всей России, с изменой, предательством, смертью. Не менее заметная роль у Маши из третьей части («Предчувствие февраля») книги «Как исчезает дым». Бросая мужа, подбрасывая детей, проваливаясь в ад самореализации, эта Мария справляется с заменой демонов на саму себя и превращает жизнь Даниила в поиск своей Голгофы.
Просто и категорично? Да! Тот, кто ждёт от нашей военной прозы полифонии, полутонов и виртуозного психологизма, дождётся их не слишком скоро. Идёт война, работает цензура – не государственная, а внутренняя. Кто видит бой и беду вокруг него, не может писать о русско-украинском братстве и даже о трагедии превращении украинца во врага особо писать не может. Не способен вести речь о позднесоветской вине за рождение поколения соседей-врагов. Потом будет для этого время, сейчас его еще нет.
Вот Алексей Варламов в «Одсуне» пытается: русский тормоз Славик – потрясающая украинка Катя, Россия пускает слюни, пьет и разглагольствует – Украина страдает от преданной любви. Варламов действительно старается, но получается, будто в чай с мёдом решили добавить четыре ложки сахара – потом разочаровались и просто вылили, забыв при этом сообщить о самом главном. Рассказать о том, что вбивший всё в ничто филолог Слава никуда не хочет уходить, желает продолжать, погружая в обломовщину очередные поколения. Он всё бытие запланировал сделать своей монотонной речью, не терпящей присутствия другого.
А какой вообще должна быть Победа? По-настоящему мирный договор и признание новых регионов? Вся Украина наша? Русский парад в Лондоне и Париже с искоренением глобалистской элиты? Или ещё сложнее: благие метаморфозы и покаяние человека потребительской цивилизации, его перевоспитание и возвращение на путь традиции?
Да и сама литература не может обходиться без своих собственных штурмов. Что это за штурм? Появление романа или целого новаторского жанра, который саму словесность представит как победу? Да, только так! Приближая победу в спецоперации, новейшая проза может подняться на невиданную высоту, без которой национальная словесность рубежа тысячелетий превратилась в развлечение праздных критиков и хитрозадых (разумеется, не всегда!) премиальных контор.
Я уверен: создать яростно сражающуюся книгу не менее важно, чем принять участие в боевых действиях. Пока в нашей новейшей прозе такой уверенности не нахожу. Да, это слишком резко. Но пусть останется так.
Русская художественная словесность больна реализмом – в его особом принятии! Как? Ведь все говорят об обратном: игровые технологии, эпистемологическая неуверенность, запланированная интертекстуальность и прочая дрянь! Всё сложнее. На евразийском фланге, там, где патриоты героически воюют с либералами, словно выучили: реализм – религия Победы! Но так как гениев в литературе сейчас нет, то получается не великий реализм, а относительный натурализм, очерк, дневник, заметки, интервью и ограниченный по взрывным эффектам «новый реализм».
Рискну посоветовать пишущим воинам давнюю, большую, похожую на манифест статью Владимира Бондаренко «Жрецы русского постмодерна». Цели постмодернизма – не дружеские, но методы его надо использовать! Жуть, личностная энергия и субъективная сила модерна должны быть на русской стороне!
А что имеем сейчас? Полноту военной повседневности – и это, конечно, уже много, это уже хорошо. Анна Долгарева и Дмитрий Артис: окопы, подвалы, боль, блиндажи, портреты; иногда лица собираются в судьбы. Валерия Троицкая: жизнь и смерть донецкой семьи как эпос нашего времени, как русское воспитание многое выдержавшей девочки Кати. Алексей Шорохов (увы, до сих пор не прочитал его «Бранную славу»): православное собирание фактов войны и мира в речь о подвиге и падении. Дмитрий Филиппов (и вот тут мне ещё интереснее!): рационально построенный роман о вертикальном движении мужчины от кресла чиновника к служению сапёром, от сложности и нравственных интриг Великой Отечественной к парадоксам СВО, от двойственности событий и оценок – к их преодолению в итоговом отрицании ждунов и циников. Платон Беседин (к нему стоит прислушаться!): окопной правды нет, отсутствует линия боевого соприкосновения; есть Донбасс как Страшный Суд, как уничтожение нового Ставрогина и апология словесника Даниила, обретшего силы дотянуться до креста войны.
Отрицает ли только что сказанное предшествующие упреки в «реалистической» вялости? Нет. Мне кажется, это чувствуют сами мастера военной словесности. Например, Евгений Николаев в книге «Моя Новороссия». Жанр собственного повествования будто не дает ему покоя, спрашивает о том, что здесь доминирует. Я отдельно не писал о Николаеве, поэтому сейчас буду подробнее.
Сначала ставка на гротескный удар – вхождение в читательскую память. «Смерть тёмно-оранжевого цвета», а запах мертвого тела и цветущей акации идентичны. Вот несчастный щенок под минометным обстрелом: «Он умер в тот момент, когда на правый глаз села большая зеленая муха, а у него не хватило сил, чтобы моргнуть». Совсем мягкий, какой-то «пельменный» Пересвет проявил стальную выдержку, а напоминающий викинга Леший сдулся. Вот подвиг прапрадеда-врача, который в Отечественную читал перед фашистами «Фауста» по-немецки - спасая других, убивая себя.
«Мина попала четко между ними. «Муму» бросил ПТУР и залег. А «Директор» стоял и смотрел на небо. Его глаза закатились, и он как будто бы стёк телом к стопам своих же ног. Растекся бурой лужей на черной земле. Осколок попал ему в бок и, отскочив от ребер, срикошетил прямо в сердце. Он умер, не договорив», - память о мгновении обстрела возносится до обыденности, гимна и прощания одновременно.
Потом власть эпизода отступает перед историософией Новороссии. В центре оказываются имперская политика и дерево платан - Страна Платания, Причерноморье: Кишинев, Одесса, Николаев, Херсон, Симферополь, Севастополь, Мелитополь, Мариуполь, Таганрог, Ростов, Краснодар должны быть вместе. «Евразийство – это единственно опасный для западных народов геополитический проект», - историософия переходит в публицистику, но происходит это движение под мифом об Орфее Русско-Молдавском, который должен внести в разножанровый текст – как знамя – вертикаль красоты!
Но, как и почти во всех иных военных текстах нашего времени, красота и миф временны и быстротечны. Они воспринимаются как искушение, надо бежать от красоты к очерку о жизни в Херсоне, а также к проповеди о преображающей силе настигшего нас эпоса. Несколько примеров.
«Наша страна по гроб жизни будет должна Русскому Солдату, вынесшему на своих плечах сразу две войны. С врагом внешним и предателем внутренним».
«Через войну и армию должно пройти все мужское население страны. Во-первых, это привнесет в армию новые умения и навыки, инновационные методы работы. А во-вторых, наши граждане увидят, что не все ладно в Датском королевстве».
«Россия не готовилась захватывать Украину. Наоборот, выучив уроки 1941 года, ударила на упреждение. Украинские войска готовились атаковать Крым и Донбасс. Теперь это понятно многим. Я понял это в марте 2022-го. Мы опередили их буквально на три-четыре дня. Поймав на марше, ударили под дых. (…) Укры были уверены, что у России не хватит решимости пойти с Западом в прямое противостояние».
«Что наш солдат говорит про победу? Он в ней не сомневается. Кроме таких циников, как я, которые говорят, что мы уже победили, так как смогли изменить Россию, развернув ее от классического анального потребительства своей исторической миссии. Ведь если мы разгромим Запад, наше будущее – Великая Евразийская империя. А если падем под их ударами, то, по крайней мере, погибнем с оружием в руках, расстреливая и вешая всю эту прогнувшую шоблу, доведшую страну до краха. В любом случае нас ждет великая судьба».
Николаев словно забивает гвозди нерушимого смысла, в границах которого координируются все потоки информации и читательская реакция на нее. Красота сладкозвучного Орфея уступает место проповеди о Русской Победе. Победа, следуя законам национальной сюжетики, сопрягается с трагедией. Пока она не воплощается литературно, она поступает из фактологии битвы: мы оставили Херсон, мы допустили гибель многих – мы вернем наш город.
Объявляя СВО русской Реконкистой, Николаев знает: «Наш народ напишет свой эпос, свою Песнь о Сиде». К этому и должна идти литература! И последнее о Николаеве: «Стремоусов оказался единственным самураем Русского Херсона. (…) Честь и хвала этому человеку. Он придал именно ту степень трагичности, которая позволяет надеяться на наше возвращение». И совсем последнее: «Нам не хватает яркости бытия и ярких красок наших знамен». Да, пока именно так. Часто рассуждают об отсутствии российской победы в информационной войне. Однако не менее важно, что «не хватает яркости наших знамён».
В чем вижу уже сейчас присутствующую литературную стратегию Победы? Несколько аргументов.
Внимание к народной трагедии значительнее интереса к причудливым травмам и субъективным фэнтези. Даже каталогизация бед, предпринятая Анной Долгаревой, Валерией Троицкой, Евгением Николаевым, не просто перечисляет катастрофы людей Донецка, Луганска, Херсона, Мариуполя, но и показывает, что это и как – жить в центре огня, под атакой безличной артиллерии, умирать не в индивидуальном падении, а за право говорить по-русски и – хочешь или хочешь не всегда – за русский народ, которого вроде и нет уже. Ведь именно над его отсутствием смеялись литераторы большого, управляемого успеха! Иноагентская поэтика отнюдь не всегда вульгарная публицистика и русофобия в лозунгах; там мысль о непереносимости дурно пахнущего, агрессивно глупого «народного тела», в присутствии которого всегда страдает изнывающая от тоталитаризма образованная и стабильно одинокая душа…
Личностная и соборная работа заменяет действительный и символический фриланс. Я двумя руками за усиление эпоса, за торжество пафоса, за новые формулы победы и сакральное осознание происходящего, за лозунг, флаг и сжатую до молитвы идеологию! Я за военные рассказы Андрея Платонова и «Взятие Великошумска» Леонида Леонова! Однако все авторы, видимо, мудрее меня, поэтому ключевым сюжетом новейшей военной прозы оказывается работа – трудная, под артобстрелами и бесконечными беспилотниками, насыщенная энергией труда и смерти повседневность. В этом контексте информационная сила произведений Филиппова, Долгаревой, Артиса огромна: как поддерживать гигиену, бороться с крысами, делиться чаем и едой с соседними подразделениями, выходить из запоя по гибели друга, спасать товарища от кровопотери, участвовать в транспортировке «двухсотого», реагировать на очередной налет. Это не фриланс, обрадовавший и запутавший миллионы сограждан, ставший знаком очень ограниченной ответственности. Это работа – как испытание души и сознания готовностью трудиться не только на себя. Следуя своему объявленному пафосу, скажу, что это творение государства снизу – при всех претензиях к официальным системам, которые сверху.
Внешний и внутренний Донбасс против «внутренней Монголии» и безграничной Теллурии. Больше тридцати лет русская литература не может обойти стороной два столба, которые издалека могут показаться вообще одним фетишем. И с началом спецоперации они не только не исчезли, но и предстали в соответствующем времени дизайне. Виктор Пелевин выпустил «Путешествие в Элевсин», Владимир Сорокин опубликовал роман «Наследие». С одной стороны, в обеих книгах всё главное жестко: Россия объявляет о значение апокалипсиса, потом тщательно – опираясь на православие, милитаризм и, например, Достоевского – производит его как главный национальный продукт. С другой стороны, бежать надо от всех русских бед как раз туда, куда и прежде бежали поклонники Пелевина и Сорокина. В герметичного, высокомерного – себя! «Внутреннее» для литературы – это закономерно: но внутренний Донбасс, особенно сильный в книге Платона Беседина, совсем не то, что Монголия и Теллурия с гротескным хохотом и уничтожением любого собора. Еще важнее, что есть ценность земли, городов и сёл, утверждается реальность прошлого и будущего. И, как следствие, сила тела и общего дела – в противовес виртуальной вселенной пелевинских и сорокинских книг.
Литературный монотеизм оттесняет литературный буддизм. Не один раз писал о том, что в литературе рубежа тысячелетий буддизм, гностицизм, гамлетизм, постмодернизм образуют единый комплекс, отвечающий за ключевые дидактические послания постсоветского времени. Если сказать мягко, получится примерно так: «внешний мир не интеллигентен и не слишком легитимен», «непознаваемый Бог исключительно в душе», «основные события только во мне», «главная травма я сам», «символическая, да и реальная эмиграция – способ достойного ответа на российский Эльсинор». Поэтика Михаила Шишкина, Дмитрия Быкова, Людмилы Улицкой, Дмитрия Глуховского, Бориса Акунина (все пятеро объявлены в РФ иноагентами) растет из этого «буддийского» зерна. На другом фланге, где и формулируются силы сопротивления, Александр Проханов и Захар Прилепин. Их текстов в нашем материале нет, но влияние на военную прозу (и содержательное, и организационное) очень большое. Под «литературным монотеизмом» я понимаю даже не выраженное православие Алексея Шорохова, а общую интуицию Отца, Креста и Суда, делающую историю полем самого важного сюжета, который может обойти стороной только глупец или предатель. У Анны Долгаревой, предъявляющей нам и Богу многие страдания и смерти, есть дорога к Иову. У Дмитрия Артиса, склонного к печали, готов заговорить Екклесиаст. Пока не заговорил, дорога еще не готова. Но очень надо!
Собиратели тишины – и образ, и программа: одновременно память о павших и ответ суетливым современникам. Сильный образ, ставший заглавием романа Дмитрия Филиппова, нечто важное говорит и о других текстах новейшей военной прозы. Во-первых, скромное, почти всегда тихое слово о погибших – гражданских и военных, о тех, кто собирался жить спокойнее и гораздо дольше, о поменявших имя на позывной, об оставшихся целостным сюжетом, маленьким фрагментом или просто отдельной фразой или жестом. Как Антон «Малой» у Филиппова, «Прочерк» у Артиса, Алексей Журавлёв или «Скрипач» у Долгаревой, Мишка «Спартак» в рассказе Шорохова «Первый пленный». Во-вторых, эта особая тишина, полная лишений, риска и смерти, сопряженная с постоянной возможностью для автора-героя пропасть без вести, не закончить, не добраться до финала книги, замолчать прежде кульминации – эта парадоксальная тишина среди взрывов свидетельствует о шуме мирской, далекой от фронта реальности, цветущей и не желающей признавать страданий. Как сказала одна студентка, отказавшаяся от чтения Филиппова, война угнетает и раздражает, заставляет искать место, где можно отсидеться, не знать, укрыться чем-то далеким и прочным от давно рождавшегося и вот родившегося эпоса; лучше фэнтези, да лучше что угодно, потому что чудится ракета, летящий прямо в навсегда испуганного человека снаряд…
Наша новая военная проза – чтобы страха стало меньше, а понимания Большого времени и необходимости Большого стиля заметно больше. Все эти дневники, записки, романы, сборники и рассказы участников – русские апологии в тяжелое время собирания Запада в образе очередного дракона. И катарсис здесь иной – в уничтожении пространства покоя ради отказа от иллюзии почти состоявшегося глобалистского рая.
Илл. Алексей Крюков "Защитник" (2022).