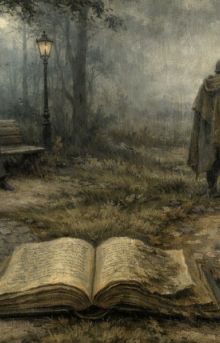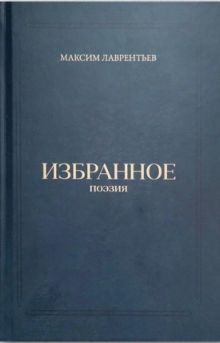Вполне понятно, что в художественных текстах, посвящённых Специальной военной операции и написанных её участниками, главенствует содержание. Однако литература неизбежно, даже в случае с именно сейчас происходящей трагедией, возвращается к своей логике, заставляет читателя спрашивать не только о событийных рядах и актуальных речах, но и о принципах построения материала, формирующего роман или иной жанровый феномен. Повесть Алексея Шорохова "Ромаядины" интересна мне и включением военного сюжета в более обширный контекст, и теоретическим вопрошанием автора — вряд ли явным, рельефно выраженным, и всё-таки присутствующим — о проблеме воплощения опыта сражений не только на линии боевого соприкосновения. Как писать о том, что происходит теперь?
Поэтому старт возьму с главы третьей "Встреча". Начинается она для меня, краснодарского литературоведа, очень интересно: "Они встретились в Краснодаре, на Селезнёвских чтениях". Они — это историк Артём и филолог Мария, которая хорошо зарабатывала на телевидении, а "утешалась Достоевским". Тёма буквально напросился участвовать в конференции Кубанского университета, потому что хорошо знал: она посвящена не только большому мастеру словесности Юрию Селезнёву, но и всему спектру правофланговой литературы и публицистики. На Селезнёвских чтениях всегда незримо присутствует со всеми своими трудами Вадим Кожинов. А ведь ещё "на третьем курсе Тёма открыл для себя Кожинова и понял, что не столько история, сколько историософия его конёк". В Краснодаре между Артёмом и Машей возникла симпатия, она доросла до любви и брака. С началом СВО муж ушёл добровольцем на фронт. Дальше легче и спокойнее не будет.
Автор не развивает специально кожиновскую тему, но её не может обойти стороной читатель, посетивший большинство (однажды вместе с Шороховым) конференций, посвящённых Вадиму Валериановичу. Проходили они в Армавире с 2002 по 2013 год, организатором был профессор Юрий Павлов — думаю, один из первых читателей "Ромаядиных". Так что здесь всё серьёзно, подтексты трудно свести к скромному упоминанию одного из лидеров Русской партии.
Конечно, Кожинов — это духовная политика, возможно, лидерство в Русской партии. Разное о ней говорят, но о том, что она состоялась в интеллектуальной жизни — вряд ли стоит спорить. Русская партия, противостоящая западному либерализму, была, есть и будет. Мне (да, пишу об этом не в первый раз) интересен ранний Кожинов как теоретик, методолог, специалист по жанрам. Не удержусь от совета начать выстраивать его Русскую идею с трудов 60-х годов. Во-первых, "Сюжет, фабула, композиция". Во-вторых, "Роман — эпос нового времени". Это не просто следование за Михаилом Бахтиным, это чётко выстроенное Кожиновым учение о "романном человеке", который сочетает зримую, воплощённую героическую фабулу-поступок с глубинным, выраженным в психологическом слове сюжетом-речью. Роман — вершина! Но лишь когда на просторах повествования находит место эпическая вертикаль. Споря с Бахтиным, с его знаменитой амбивалентностью, Юрий Селезнёв будет говорить о соборности как о самой значимой точке эпического романа. Разумеется, Достоевский в этих рассуждениях будет нужен всегда.
Итак. Русская идея, по Кожинову и Селезнёву, — это воля к поступку (национальный противогамлетизм!), соединённая с мощью внутренней жизни, с живым, рвущимся к свету чувством, и мыслью — кризисной, но потрясающей по религиозному потенциалу.
Возвращаемся к повести Алексея Шорохова. На мой взгляд, самый разработанный и врезающийся в память образ — Августа Владленовна Ромаядина, женщина беспутная, балансирующая словно на грани уничтожения, но всегда остающаяся на плаву. Она — мать Маши, жены ушедшего на фронт Артёма. Она — дочь фронтовика, много лет служившего осветителем в Театре на Таганке. Всю жизнь Гуся поклонялась двум богам: либеральному отрицанию России — явному и символическому "протестному движению" — и сексуальной свободе, приносившей очередное лимитированное счастье с перспективой одинокой старости. Впрочем, не поступив на филфак МГУ, она сумела и замуж выйти, и дочь родить от "лотмановского" филолога Питэра — человека неплохого, но с причудами: он, поклонник Набокова, назвал бы дочь Адой, да восстал тесть, и появилась Машенька — всё-таки привет автору "Лолиты" состоялся. Питэр с Августой расстанутся, ещё молодая женщина отправится к берегам новых любовей. Питэр, потерявший СССР, да и Тартускую школу, ближе к финалу скажет: "Мы не выбрали свободу, мы просто вернулись к старым хозяевам".
Шорохов часто использует риторику, которую можно назвать публицистической: "Однако эпоха Таганки, советского структурализма и необременительной "борьбы с режимом" заканчивалась", "На телеэкраны и в радиоэфир ринулись толпы гугнивых и косноязычных, в литературу — матерная речь и блудописание", "Девушка заканчивала 11-й класс среди детей "новых русских", стремительно народившихся из старых нерусских, большей частью торгпредовских и комсомольских". Или судьба комбата Хромого, перешедшего из бизнеса к защите русской Украины: "Но случился 2014-й год. Очаков, как и Одесса, как и Николаев, как и Мариуполь, как и всё Черноморское и Азовское побережье Юго-Востока бывшей УССР не видели себя в одном государстве со зверьём, приехавшим с Западенщины и татуированном свастиками и нацистскими рунами".
Это не жажда "газетности" и оценочной сиюминутности, это — стремление к эпосу. Да, пока не расставаясь с Августой, надо сказать, что долгие годы она, окончив Институт культуры, поднималась по карьерной лестнице в Библиотеке иностранной литературы, всё чаще "заболевала оппозиционными расстройствами", а причиной физических недугов считала своего главного почти метафизического врага — Путина. Всё это вполне работающие знаки — в границах эпоса. Хорошо-хорошо, в границах публицистической версии эпического сюжета.
Теперь о заголовке, он транслирует фамилию. Читаем важное: "Августа Владленовна почему-то считала себя римской матроной". Что ж, первое значение: фамилия Ромаядины несёт весть о классическом Риме, учитывая статус Августы, это Рим уж точно не без упадка, разврата и надвигающейся катастрофы языческой жизни. В ходе беседы Артёма с эстонским тестем прояснится вариант второй: Ромаядины — рептилии или, точнее, рептилоиды: это уже настолько далеко от Первого Рима, что можно вести речь о его новейшем западном кризисе. Тут вполне уместна и семейная беда: за эротическую динамику матери расплатилась дочь Маша, которая не смогла сориентироваться, выбрала в сожители хиппи. Хиппи заразил венерической дрянью, "наградил" Марию бесплодием. Есть вариант третий: Питэр сопрягает Ромаядиных с Ромуальдом, а это уже католический святой, прошедший путь из грешной молодости в по-настоящему состоявшуюся аскезу. И вот тут есть смысл говорить о варианте четвёртом, поощряющем читателя перейти от грешного Рима Первого к Риму Третьему, за который сейчас идёт война.
Как он появляется в повести? В пути Артёма. Он не только Кожинова читал или жену в Краснодаре нашёл. Он двигался и дорогой серьёзного кризиса в пространстве религиозной инициативы. Бросив все вузы, где преподавал историю, оказался в деревне под Тулой, и Третий Рим явил себя в опыте священника Владимира. Важен прежде всего рассказ батюшки (вырастающий в центральную притчу повести) о пламенной большевичке Розалии Борисовне. С огнём и мечом прошедшая в лихие годы по русской земле, добравшись до злой старости, она сумела встать на путь покаяния и умереть — в движении к Богу, а не в коммунистической борьбе с ним. Я бы сказал, что именно с Розалией связано важнейшее значение фамилии Ромаядины. Тут не просто позиционируется Третий Рим, но словно и падшей Августе с её "античными" грехами и либеральным бредом даётся шанс на вертикальное завершение земного существования. Надежда на рай. А не ад, в котором бессознательно, а иногда и сознательно жила Августа в СССР и России.
Всё это сделано в повести очень просто. Рискну сказать, не романно, а пунктирно и конспектно. Ведь "семейная хроника" требует всё-таки другого объёма. Дело в том, что Алексей Шорохов (каким его вижу в координации повествования) не романный человек, а человек эпический — взявший у Кожинова не теорию сюжетной глубины, а центростремительное движение к правде и Русской победе. Поэтому он верует, поэтому он сражается, получает тяжёлое ранение. Из этого эпического опыта растёт повесть, которая начинается картиной "дружественного огня", когда воин с позывным Балу чуть не расстреливает воина Артёма. В России часто стреляют по своим, один Рим палит в Рим другой. Задача ясна: не просто победить, а победить так, чтобы Третий Рим — Москва в Боге — одержал победу над "рептилоидами".
Чем закончится история? Прочитайте! Без труда найдёте на сайте "Завтра". Повесть небольшая. Скажу смешную, возможно, совсем глупую вещь. Ну, не можем мы — многие — по разным причинам воевать!
Большинство интеллигентов не в состоянии плести сети или доставлять гуманитарную помощь в новые российские регионы. Не хватает денег, чтобы соответствующе реагировать на призывы военблогеров. А читать-то мы умеем! А рассказывать другим о прочитанном — это уже наши, а не чьи-то возможности! Так давайте хотя бы внимательно относиться к тем, кто не только рискует жизнью на фронте, но ещё и успевает создать художественный мир на тяжелейшей платформе своей встречи со смертью. Хоть что-то для победы, хоть как-то — против равнодушия и успокоения в так утомившей литературе-релаксации.