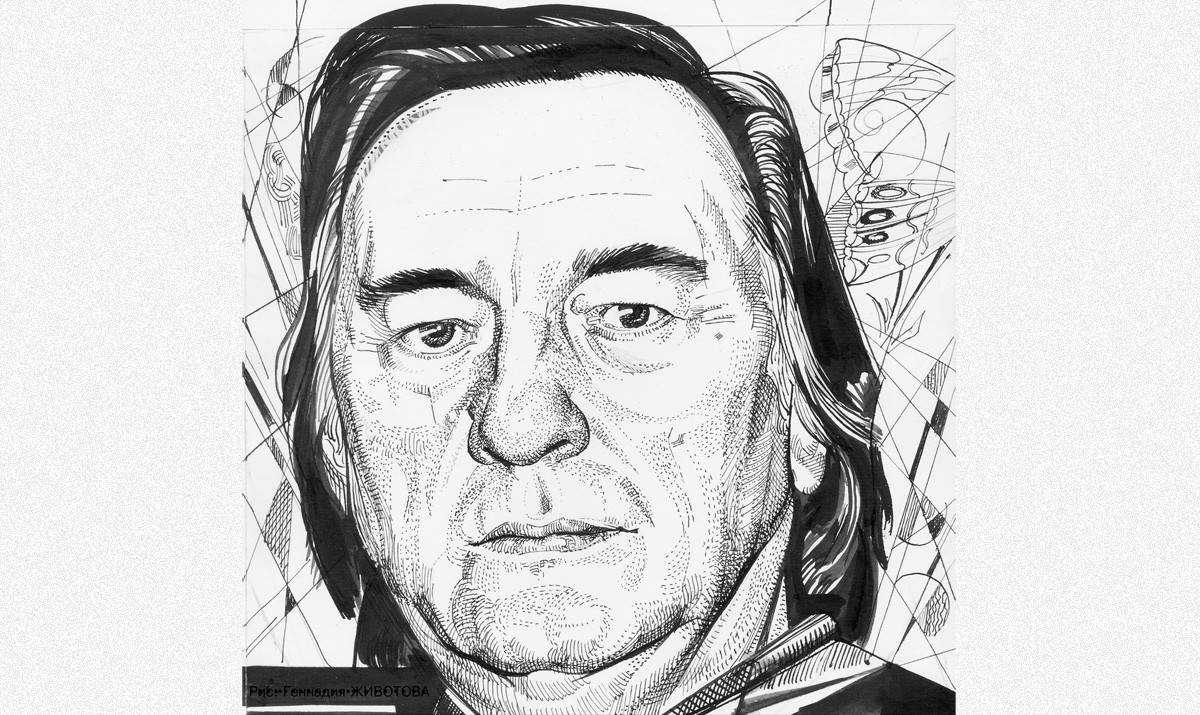Александра Вампилова, который в эти дни вполне мог бы отпраздновать свое 85-летие, отличало от других его современников ощущение внутреннего неблагополучия среды, в которой он жил. Среды в самом широком смысле. Но в особенности – нравственной. Это ощущение он пробовал передать в своих пьесах.
Сюжет его одноактной пьесы "Двадцать минут с ангелом", с которой мы начнем наши размышления, незамысловат: действие происходит в гостинице провинциального города, вернее, в одном из ее номеров, где после многодневной пьянки в жесточайшем похмелье просыпаются двое командировочных: экспедитор Угаров и шофер Анчугин.
Попутно оказывается, что все деньги, которые у них были – пропиты, и после тщетных попыток занять у ближайших по коридору соседей – скрипача Базильского и инженера Ступака нужную для похмелья сумму, Анчугин в отчаянии высовывается из окна и взывает к проходящим под ним людям с просьбой о трех рублях. Немедленно после этого в номер входит некий человек, представившийся агрономом Хомутовым и предлагает не три, а целых сто рублей, и не взаймы, как можно было бы предположить, а совершенно бескорыстно, чем приводит просящих в глубочайшее недоумение, которые разделяют также вызванные по этому поводу эксперты в лице соседей по коридору и уборщицы Васюты. После тщетных расспросов и даже некоего подобия пытки, предпринятой Анчугиным, их недоумения разрешаются, но к тому времени персонажи показывают себя с такой стороны, что испытывают друг перед другом некое подобие стыда, а жена Ступака Фаина так и вовсе уходит от мужа.
Пьеса открывается до боли знакомым, ставшим обыденным – и чрезвычайно чудовищным, если отрешится от этой всем нам хорошо знакомой обыденности диалогом, который заслуживает того, чтобы быть процитированным более или менее полностью.
Угаров: С добрым утром.
Анчугин: Выпить. (Протянул руку в сторону стола).
Угаров. Выпить? Сколько хочешь.(Подает Анчугину графин с водой).
Анчугин (отстранил руку Угарова с графином). Выпить…Нету? Ничего? (Поднимается, осматривает пустые бутылки) А деньги есть?
Угаров (бросает Анчугину его пиджак). Обследуй.
Анчугин (шарит по карманам, трясет пиджаком). Тишина. А у тебя?
И дальше, с монотонностью заводных автоматов:
Угаров. Надо соображать. Хотя бы три рубля.
Анчугин. Три шестьдесят две.
Угаров. А закусь.
Анчугин (поставил бутылки рядом). Тридцать шесть копеек, а бутылка пива – тридцать семь. Не получается.
Дальше эта бестолковая и вместе с тем чрезвычайно целенаправленная, прагматическая, прямая и конкретная беседа делает причудливые и неожиданные зигзаги, делая заходы даже в весьма отдаленные, казалось бы, от вожделенных тридцати семи копейкам области, например в музыкально-исполнительское искусство, порожденные скрипичными упражнениями в соседнем номере – и во все тех же прагматичных и однолинейных тонах. «Артистов уважать надо, они большие деньги заколачивают. ( Изображает игру на скрипке). Туда провел – рубль, обратно – опять же рубль. (Неожиданно). Даст он нам трояк или нет».
После череды неудач грозящая перерасти в бесконечность беседа опять, как в заколдованном круге (и мы почти физически чувствуем это наваждение) возвращается все к тому же предмету:
Угаров(осматривает бутылки). Тридцать шесть копеек. Даем телеграмму?
Анчугин. Кому?
Угаров. Надо подумать. Подать в управление – протянут дня три, наверно. Жене – не поймет. Остается матери… ей.
Анчугин. Мать - конечно. Мать не подведет.
В результате составляется лаконичная, ввиду особых обстоятельств, телеграмма матери, о которой при других обстоятельствах наш экспедитор, должно быть, и не вспомнил; и тут же, без перехода - опять о наболевшем:
Анчугин (держится за голову). Три рубля – всего и надо-то. Я когда в геологии работал, три рубля мне было – раз плюнуть. Плюнуть и растереть. (Презрительно). Три рубля! (Помолчал). А ведь без них и помереть можно.
Эти трехрублевые вариации на тему белого бычка занимает почти треть действия пьесы – до появления агронома Хомутова, инициирующего раскрытия персонажей в их настоящих, скрытых даже для них самих до сих пор сущностях – впрочем, как нам кажется, чисто формально, так как они ясны были при первых же сказанных ими фразах.
Вампилов, помимо прочего, мастер речевых характеристик и здесь это его мастерство предстает в полном объеме: через речи обитателей гостиницы он дает весьма четкую и объемную картину советского общества семидесятых годов в социально-бытовом, так сказать, его срезе – и общество это, надо признать, предстает в виде весьма убогом, неглубоком и однообразном.
Поражает, в первую очередь, абсолютная нравственная индифферентность персонажей и их совершеннейшая духовная пустота. И ладно бы еще Анчугин с Угаровым с их хоть чем-то объясняемой озабоченностью по поводу тридцати семи копеек для опохмелки, но оказывается, что подобной абсурдной озабоченностью отличаются, и едва ли не в большей степени, и так называемые интеллигентные персонажи – скрипач Базильский и инженер Ступак. И не потому, что они их так уж любят, эти деньги, или в них нуждаются (Анчугин, кстати, отзывается о них с презрением – впрочем, вполне возможно, что и мнимым), а потому, что в независимости от любви или не любви к ним, все видят в них единственную жизненную ценность, и не только: материальность, обыденность мышления едва ли не возведена здесь в ранг религии, потому-то и выводит из себя хоть какое-то отклонение от этой ненормальной, ставшей обыденностью, нормы.
А ведь сами они, повторюсь, что ни на есть обыкновенные советские люди: обыкновенный экспедитор, обыкновенный шофер, обыкновенный инженер, обыкновенный скрипач, обыкновенная уборщица. Однако именно эта обыкновенность и отсутствие малейших признаков отклонения от нормы вызывает вопрос: а каковы же перспективы такого общества, состоящего из не отличающихся друг от друга людей – разве что по принадлежности к той или иной профессии, но не по человеческой сущности, которая одинакова для них всех. И слова и поступки их выстроены по каким-то автоматическим, среднестатистическим образцам речи их сословий – и, что интересно, чем выше по своему социальному статусу человек, тем устойчивей в его поведении эти стереотипы. Иногда кажется даже, что мы видим на сцене не людей, а неких насекомых, живущих по каким-то отличным от человеческих законам - если, конечно, подразумевать под человеческими богоданные. Можно представить себе, с какой скорбью наблюдают за расчеловечиванием каждого из них постоянно находящиеся рядом с ними их ангелы-хранители.
Эта тенденция была обозначена уже и в более ранних пьесах Вампилова, и нельзя сказать, чтобы и в них духовное человеческое начало более превалировало над грубо физиологическим – скорее они находились друг с другом в сложных и весьма хрупких и легко нарушаемых взаимодействиях; больше того – даже самые положительные герои решали выбор между ними отнюдь не однозначно. Но, бесспорно, тогдашние персонажи в критических ситуациях все таки действовали и поступали как люди. Теперь это хрупкое равновесие получило крен в сторону нечеловеческого. Кстати, и преобладающее большинство героев позднего Вампилова (в том числе и на каком-то уровне понимающих ненормальность своего существования Шаманова и Зилова) тоже напоминают живущих для совокупления, принятия пищи и крепких горячительных напитков зверьков. Едва ли не единственное, пожалуй, исключение составляет восемнадцатилетняя Валентина – героиня последней законченной его пьесы "Прошлым летом в Чулимске", первый вариант которой назывался по ее имени – человек, который живет и поступает не так как все, но так, как подсказывает ей внутреннее нравственное чувство и, в конечном счете – так, как надо. Думается, именно такие Валентины, на личном, а не на общественном уровне осмысляющие окружающее, не перекладывающие ни на кого свои собственные ошибки, по этой причине уже в наши дни пришли во вновь открывшиеся церкви и даже, рискну сказать, стали ее столпами.
К слову: церковь, церковная терминология и глубоко скрытые иногда отсылки к евангельским текстам присутствуют едва ли не во всех больших пьесах Вампилова, начиная с самой первой – "Прощание в июле"; довольно частыми упоминаниями о Боге отмечены диалоги героев "Утиной охоты", там же ретроспективно присутствует церковь, в которой хотела бы обвенчаться с главным героем его жена; а завязку сюжета "Старшего сына" вообще определяют проскользнувшие в речи Бусыгина слова, иронически произнесенные, думается, неожиданно для него самого: «Брат страждущий, голодный, холодный стоит у порога», весьма напоминающие переосмысленное евангельское изречение. И даже, пожалуй, не очень-то и переосмысленные. И даже, может быть, и не иронические.
Так из-за чего, всё-таки, разгорается весь сыр-бор в "Двадцати минутах с ангелом"? Чем свыше меры возмущены вампиловские персонажи? Не столько тем, что Хомутов отдает деньги за так, нет - их возмущает то, что для него они вроде не имеют никакого значения. Самое главное, не столь уж отличается от них и сам агроном– тот самый ангел, заявленный в заглавии – отнюдь не обладатель ангельской сущности, а человек, принявший ее, эту сущность только на время. Недаром же в его поведении явным образом подчеркнута двойственность: бывает мгновения, отмечает в ремарке автор, когда на него нападает внезапная задумчивость; выходя же из этой задумчивости, он ведет себя, как обычный человек.
Поэтому, наверное, не с его появления, а именно после его предложения ста рублей – т.е. предложения, выходящего за рамки понимания, всех остальных, за исключением Фаины, принятого, мягко говоря, весьма насторожено, как-то сама собой и исподволь возникает религиозная тема, осторожно начатая словами Угарова, обращенными к Хомутову: «Вы в Бога случайно не веруете?» «Нет, - отвечает тот, - но…»
Это неопределенное «но» в дальнейшем так и останется без развития; однако страсти, вызванные этой оговоркой, продолжают развиваться по возрастающей, вовлекая всех без исключения персонажей, которые требуют от Хомутова объяснений - не на религиозном, естественно, но на обыденно-житейском уровне, не желая принимать никаких других, кроме понятным им самим объяснений, так что отчаявшийся Хомутов вынужден признать: «Я вижу простое человеческое участье вам не понятно».
Мотив непонимания того, что жизнь определяется совсем другими критериями нежели те, по которым живешь сам, и раннее возникал у Вампилова (в "Старшем сыне", например, в связи с Михаилом, женихом Нины Сарафановой), но отчетливей всего – в первой большой пьесе "Прощание в июле"; там этот мотив вел некий Золотуев – в прошлом то ли продавец, то ли мясник, за обвес и попытку подкупа попавший в тюрьму, по выходу из которой положивший время, труд и здоровье на скопление достаточной, по его мнению, суммы для подкупа неподкупного, засадившего его в тюрьму ревизора: Золотуев делает это для собственного оправдания и в полнейшем убеждении, что покупаются все, только у каждого своя цена – и уж перед такой суммой, двадцать тысяч рублей, и вправду гигантской по тем временам (60-е годы) ревизор точно не устоит; однако ревизор отказывается, и последнее появление Золотуева в пьесе обозначено сказанными им словами: «Жизнь кончена».
Здесь же, в "Двадцати минутах с ангелом", ситуация вывернута наизнанку: деньги даются как раз человеком, вроде бы подобным ревизору – и людям, как две капли воды схожих с Золотуевым.
Почему же они их не берут?
Отчасти, конечно, из опаски – мало ли что; главным же образом - из ложно понимаемой гордости. Правильнее было бы этот конфликт, порожденный подсказкой Божией в душе одного и бурей, вызванной разбушевавшимися демонами внутри остальных, стоило бы проанализировать на уровне не житейского, а духовного рассуждения – но никому персонажей, даже самому Хомутову (да и, пожалуй, автору) такое рассуждение, естественно, не может придти в голову. Поэтому самое абсурдное начинается тогда, когда все по очереди предлагают свои объяснения поступку Хомутова.
Скажи-ка, деньжата-то ворованные, верно, говорит один. Другой добавляет: Ну, украл, ну что особенного, подумаешь, редкость. Но – увы – объяснения не годятся: Угаров (с сожалением). Не крал он; видно, что не крал.
Примечательно, конечно, здесь это сожаление, тем более, что дальше – не менее характерная реплика вошедшего в раж, порывающегося даже избить доброхота Анчугина: «Пускай он мне расскажет, разъяснит по человечески». По человечески – это согласно мировоззренческим понятиям самого Анчугина: задача, цель и последовательность действия в духе неких общепринятых стандартных поступков. Вместо этого Вампилов влагает в уста Хомутова явно позаимствованные из Евангелия и не очень согласующееся с его предыдущей и последующей манерой речи объяснения: «У одного человека – ни копейки, у другого червонцы. Одному деньги необходимы, а другой их копит. Так вот второй дает первому, делится с ним, помогает. Ведь это так просто».Но в ответ – уже ставшая привычной мгновенная реакция окружающих: «Бред. И притом религиозный».То есть, слова и поступок Хомутова безошибочно и немедленно связываются с религией, именно это ощущение религиозного, которое определяет поведение Хомутова на данный момент и вызывает раздражение: «Богородицу из себя выламливает», не совсем последовательно выкрикивает малограмотный Анчугин; а Васюта – та более точно производит Хомутова в ангелы: «Да откуда ты такой красивый? Уж не ангел ли, прости Господи».
И, наконец, скрипач Базильский: «Маньяк! Уж не воображает ли он себя Иисусом Христом». Он же, спустя некоторое время: «он вообразил себя Спасителем».
Проведение религиозного пунктира и определяемого им житейского конфликта по возрастающей дает все основания предполагать, что Вампилов выстраивал эту линию вполне сознательно; но так же очевидно, что он не находит возможностей, чтобы этот конфликт достойно разрешить. Посему пьеса заканчивается не очень убедительными объяснениями Хомутова: оказывается, он откладывал эти деньги для матери, но все не находил возможности с ней повидаться, мать умерла, деньги стали не нужны и он решил отдать их первому, кому они понадобятся, и мигом притихшие персонажи объединяются в якобы человеческом сочувствии к чужому горю; но объединение, заметим, весьма иллюзорное, тем более что происходит оно при непосредственном присутствии полагающейся при этом бутылки: примирительные и извиняющиеся речи персонажей заключает вполголоса брошенная Васюте Угаровым реплика: вина, после чего вино появляется, стаканы наполняются и беседа сворачивает на до боли знакомый круг:
Анчугин (Хомутову). Пойми, браток. Деньги, когда их нет – страшное дело.
Угаров. Что поделаешь. (Со стаканом в руке).Так сказать, за помин души. Извините. (Выпивает).
А вслед за этим нелепым тостом следуют не менее нелепые слова Хомутова, от ангельского состояния возвратившегося в обыкновенное состояние советского бодрячка: «Да нет товарищи, ничего, ничего. Жизнь, как говорится, продолжается».
Между тем никаких оснований для такого бодрячества нет. В особенности если учесть, что духовное поле героев Вампилова, и без того суженное, в последующих пьесах все более обретает черты бессмысленной неприкаянности. Об этом свидетельствуют и "Утиная охота", и "Прошлым летом в Чулимске", в которых, кстати, большую часть действия совсем не случайно занимают алкогольные возлияния. В первой, где происходит переход с бытового уровня на откровенно метафизический – в особенности.
Сюжет этой самой глубокой вампиловской пьесы, коллизии которой имеют, как мне недавно стало известно, некоторую биографическую подоплеку, определяет важнейший для христианства, в частности для православия, мотив духовной смерти, в которую стремительно погружается главный герой. Сам термин: духовная смерть, кстати – не из области мирской, светской, но религиозной.
Насколько в этом плане соответствует этому понятию трактовка Вампилова и как должна быть представлена на сцене эта духовная смерть? Визуально – через сменяющиеся картинки, попеременно отображающие внутренние состояния героя, пребывающего то в бытии, то на грани небытия - если не частыми выпадами за эту грань, а то и почти что за этой гранью, как в описании путешествия на охоту через некое сакральное потустороннее пространство, сходное с пространством героя фильма Джарамуша "Мертвец". Вербально – через фразы, типа неоднократно повторяющейся в разных вариациях: если подумать, жизнь, в сущности, проиграна; или диалоги, вроде вот такого: Доживешь? – Не знаю. Как дожить, не представляю. Подразумевается – до дня открытия охоты, на самом деле – намекающего на переход жизни, похожей на смерть в смерть окончательную. Через монологи, построенные как диалоги: Кто разговаривает? Зилов… Ну конечно. Ты что, меня не узнал? … Умер? Кто умер? Я?! Да вроде бы нет… Живой вроде бы… Нет, нет, живой. Обратим внимание на это без особой уверенности двукратно повторенное: вроде бы. Потому что особой уверенности у героя нет. И в особенности: Только не хватало, чтобы я умер перед самой охотой, - фраза, выражающая его неприятие себя в качестве мертвеца и даже игнорированием смерти как факта – в сцене получения письма от чующего смерть отца Зиловым:
Саяпин (бросает письмо через стол). Письмецо от внука получил Федот…
Зилов. От папаши. Посмотрим, что старый дурак пишет. (Читает). Ну-ну… О, Боже мой. Опять он умирает. (Отвлекаясь от письма). Обрати внимание, раз или два в году, как правило, старик ложиться помирать. Вот послушай. (Читает из письма). «…на сей раз конец – чует мое сердце. Приезжай, сынок, повидаться, и мать надо утешить, тем паче, что не видела она тебя четыре года». Понимаешь, что делает? Разошлет такие письма во все концы и лежит, собака, ждет. Родня, дурра, наезжает, ох, ах, а он доволен. Полежит, полежит, потом, глядишь, поднялся – жив, здоров и водочку принимает. Что ты скажешь?
Саяпин. А сколько ему лет?
Зилов. Да за семьдесят. То ли семьдесят два, то ли семьдесят пять. Так что-то.
Саяпин. Старый. И в самом деле может помереть. Все-таки ты взял бы да съездил.
Зилов. Когда?
Саяпин. Ну, в отпуск, в сентябре.
Зилов. Не могу. Сентябрь – время неприкосновенное: охота.
Не буду касаться цинизма, с каким сын высказывается о вскормившем его отце, года рождения которого он не помнит, а также более поздней нечеловеческой выходке, когда, вместо того, чтобы поторопиться на похороны все-таки умершего отца, Зилов, предварительно разыграв душераздирающую сцену перед женой, желающей разделить его горе, которого нет и в помине, предпочитает провести ночь с юной девушкой, с которой познакомился несколько часов назад, перенеся поездку на следующий день (и на похороны, конечно, опаздывает).
Речь о другом.
Зилов, при всём своем цинизме, не диссидент, не бунтарь против системы, не критически настроенный в отношении жизни интеллектуал – он обычный среднестатистический советский инженер, даже, слава Богу, не интеллигентный. От других его отличает только внутреннее ощущение того, что и сам он, и его знакомые какие-то неправильные люди, живущие в неправильном мире. В этом нет его личной заслуги, это ощущение не от него исходит, откуда это тотальное неблагополучие - он не знает, да и особо знать не хочет. Большей частью по причине того, что сам – плут, врун, нахал, живчик, удалец по женской части, съедаемый, правда, при этом внутренней скукой - почти идеально в этот неправильный мир вписан. Свою общность со средой отмечает сам Зилов – в притче, рассказанной официанту Диме в предпоследней картине третьего акта, одновременно дающей понятие о причине внутреннего беспокойства героя:
«Ну, вот мы с тобой друзья. Друзья и друзья, а я, допустим, беру и продаю тебя за копейку. Потом мы встречаемся и я тебе говорю: «Старик, говорю, пойдем со мной, я тебя люблю и хочу с тобой выпить». И ты идешь со мной, выпиваешь. Потом мы с тобой обнимаемся, целуемся, хотя ты прекрасно знаешь, откуда у меня эта копейка. Но ты идешь со мной, потому что тебе все до лампочки, и откуда взялась эта копейка, на это тебе наплевать… А завтра ты встречаешь меня – и все сначала. Вот ведь как. А ты говоришь поссорились. Просто я не желаю их видеть». На что следует закономерный вопрос официанта: «Тогда зачем же ты их пригласил?» Ответ: «Да так, для души».
Какого же качества должна быть душа, нуждающаяся в сообществе людей, которые она презирает? Или, все-таки, чувствует неразрывное родство с ними? Далее, правда, следует уточнение: «Какая разница, сегодня я гляжу на эти рожи, а завтра я на охоте». Но отметим на всякий случай: на охоте на пару с этим самым официантом, носителем едва ли не самой мерзкой рожи (кстати, усилием этой рожи к числу ей подобных в заключительном видении Зилова присоединяются и Галина, и Ирина, казалось бы, не имеющих с ними ничего общего) Зилов испытывает к нем завистливый пиетет – может потому, что официант начисто лишен и рефлексии, и страдания по какому бы то ни было поводу. И его же считает своим самим доверенным лицом и даже единственно близким себе человеком (наиболее явно – в начале второй картины второго действия). У него одного ищет он понимания и хочет знать мнение о себе: (С волнением). Старина, ты прости за глупый разговор, но скажи, старик, как ты ко мне относишься? (Слушает). А я…Я так тебе скажу. После вчерашнего я остался один… Нет, чувствую, что один. И получается так, что ты – самый близкий мне человек. (Принужденно смеется). Да нет, не в этом дело… В общем, слава Богу, что мы едем с тобой на охоту…
Так мотив вожделенной, могущей просветить душу охоты приобретает еще один нужный автору обертон, а затем и сам символ, заложенный в это понятие, вначале отменяется, а к самому финалу преображается, наконец, довольно существенным образом. Раннее охота была для Зилова чем-то большим, чем стрельба по живым мишеням, даже чем-то противоположным этому – именно по причине различения живого и неживого или даже ощущения живого - живым. Если и делались тогда попытки стрельбы по живым целям, то неудачные – по причине внутреннего волнения. Теперь этого волнения нет, Зилов готов стрелять, и закадровый выезд его на природу связан уже не с возрождением души, а с ее окончательной смертью.
Вот как описывает это Вампилов, и в описании этом нельзя не заметить определенной символичности, которой пронизана вся пьеса.
Зилов некоторое время стоит неподвижно. Затем медленно опускает вниз правую руку с ружьем.
С ружьем в руках идет по комнате. Подходит к постели и бросается на нее ничком. Вздрагивает еще раз. Вздрагивает чаще. Плачет он или смеется, понять невозможно, но все его тело содрогается так, как это бывает при сильном смехе или плаче. (Или же, добавляю от себя – при предсмертных конвульсиях). Так проходит четверть минуты. Потом он лежит неподвижно. К этому времени дождь за окном прошел, синеет полоска неба, и крыша соседнего дома освящена неярким предвечерним солнцем.
Но весь этот умиротворяющий пейзаж уже недоступен Зилову, который никак на него не реагирует. Как и на телефонные звонки, которые мы вправе воспринимать как последние звоночки откуда-то со стороны умершей душе (знаменательно здесь многократно повторенное: он лежит неподвижно).
Раздается телефонный звонок. Он лежит неподвижно. Долго звонит телефон. Он лежит неподвижно. Звонки прекращаются.
Звонки возобновляются. Он лежит не шевелясь. Звонки прекращаются.
И, наконец, фиксация смерти души и одновременно - окончательный отказ от чаемого возрождения на внешнем уровне. Зилов звонит официанту, которому, наконец, совершенно уподобился, теперь он едет не на природу, но на охоту, чтобы стрелять и убивать.
Он поднимается, и мы видим его спокойное лицо. Плакал он или смеялся – по его лицу мы так и не поймем (по причине уподобления лица маске). Он взял трубку, набрал номер. Говорит ровным, деловым, несколько даже приподнятым тоном.
Дима? Это Зилов… Да… Извини, старик, я погорячился… Да, все прошло… Совершенно спокоен. Да, хочу на охоту…Выезжаешь?.. Прекрасно… Я готов…
Что это, как не окончательная смерть души. Ранее Зилов неоднократно покушался разрушить едва ли не все скрепы, связывающие его с миром. Но поскольку с ним он составлял единое целое, то разрушил, прежде всего, себя. И утратил в результате ощущение границы между добром и злом.
В результате глумлению подвергается даже смутное ощущения присутствия в мире того, что Зилов именует святостью, рецидивы которой не совсем безосновательно он чувствует и в природе, и в жене, и в юной возлюбленной (она же святая, - шутя говорит он приятелю, - может я ее всю жизнь любить буду), - все как будто назло самому себе или своим представлениям, которые ему самому кажутся ложными. Впечатление такое, словно он никак не может поверить в то, что эти рецидивы еще существуют. Поэтому не столь уж не неожиданно звучит его вопрос, обращенный к юной девушке, чувство которой ему предстоит вскоре испоганить: Может быть, вы в Бога верите? И - после её отрицательного ответа: а во что ж вы тогда верите? И действительно: во что? Этот вопрос он мог бы задать и самому себе. И, вслед за ним, мало чем отличающиеся от него приятели, и жители города, в котором он живет, и вся страна, которой всего лишь через каких-нибудь четверть века предстоит распасться. И внятно на него ответить.
Тогда, может быть, этого бы не произошло.