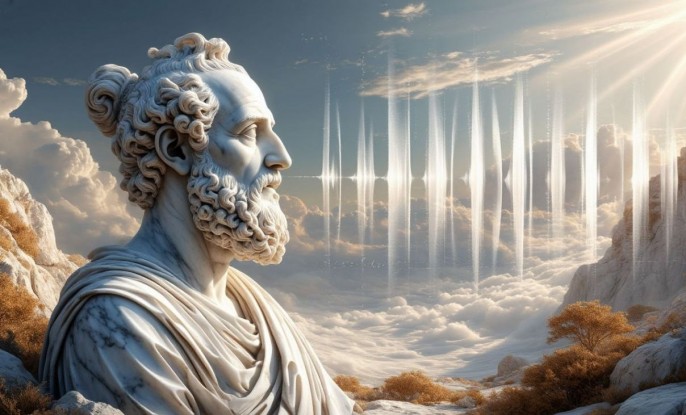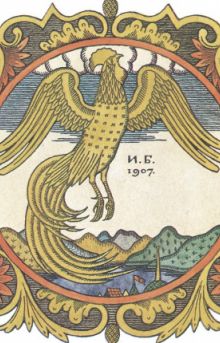Часть I. Бах оскопляет музыку
Музыка сфер и основания государства
Средневековье любило цитировать известный рассказ о Пифагоре, усмирившего буйного юношу, который, разгоряченный вином и ревностью, ломился в дом своей подруги, тем, что заставил игравшего неподалеку флейтиста сменить возбуждающий фригийский лад на гармоничный дорийский.
Другая подобная история повествует как Эмпедокл, ученик Пифагора, спас жизнь своему хозяину Анхиту, которому угрожал мечом сын человека, приговоренного им к публичному наказанию, быстро изменив модус музыкальной композиции.
Познав терапевтический эффект музыки, Пифагор использовал его повсеместно, исцеляя болезни души и тела, и используя в своей университетской практике для настроя учеников.
Ямвлих в «Жизни Пифагора» так описывал эту практику: «Некоторые мелодии были выдуманы для того, чтобы лечить пассивность души, чтобы не теряла она надежды и не оплакивала себя… Другие же использовались им против ярости и гнева, против заблуждений души. А были еще и мелодии, которые умеряли желания».
Но Пифагор сделал и гораздо больше, нежели осознание созидающей и разрушающей силы музыки: он утвердил музыку как точную науку. Именно ему приписывают открытие диатонической шкалы. Если число имело для Пифагора божественную природу, то музыка была для него первой производной от этого божественного ряда чисел – самой ожившей гармонией, посредством которой Абсолют утверждает вселенную.
В глазах Пифагора само движение небесных сфер создавало музыку; весь космос представлял собой единое гармонически устроенное и музыкально звучащее тело. Таким образом, сам мир оказывался ничем иным, как застывшей (музыкально-числовой) гармонией. Гармония мира и ее производная, красота, указывали Пифагору на изначальное Добро, в свете которого Зло воспринималось как привнесенный в изначальную красоту космоса диссонанс элементов.
Заметим, что природа повсеместно подтверждает правоту Пифагора. Взглянув на диаграмму гармонического ряда, мы увидим ее полное совпадение с формой ракушки. А в таблице элементов Менделеева (в восходящей зависимости от атомных весов) заметим, что каждый восьмой элемент (октава) заметно повторяет свойства. В современной химии эта гармоническая зависимость так и называется «закон октавы».
Современный астрофизик Митио Каку в своей книге «Уравнение Бога»[1], говоря о попытках создания «теории всего», замечает, что красота всякой теории (в данном случае Теории Струн) обнаруживается не только в математически красивых уравнениях, но и в автоматически возникающих метафорах, которые возвращают нас к Пифагору. Физику в этой системе Каку сравнивает с музыкальной гармонией, химию – с мелодией, живые организмы – со струнным квартетом (по четырем нуклеотидам в молекулах ДНК), Вселенную – с симфоническим оркестром, а Бога – с космической музыкой, резонирующей в гиперпространстве.
В одном из древних источников пифагорейская идея гармонии космоса излагается так:
«Когда же несутся солнце, луна и ещё столь великое множество таких огромных светил со столь великою быстротою, невозможно, чтобы не возникал некоторый необыкновенный по силе звук. Предположив это и приняв, что скорости движения их, зависящие от расстояний, имеют отношения созвучий, они говорят, что от кругового движения светил возникает гармонический звук. А так как казалось странным, что мы не слышим этого звука, то в объяснении этого они говорят, что причиной этого является то, что тотчас по рождении имеется этот звук, так что он вовсе не отличается от противоположной ему тишины... Таким образом, подобно тому, как медникам, вследствие привычки, кажется, что нет никакого различия между тишиной и стуком при работе их, так и со всеми людьми бывает то же самое при восприятии гармонии сфер».[2]
Важнейшее место в учении Пифагора занимают отношения макро- и микрокосмоса. Вывод его очевиден: макро- и микрокосм подчинены единым музыкальным гармоническим соотношениям. Весьма наглядно эту мысль иллюстрирует пифагорейское учение о трех видах музыки: musica mundana – мировая музыка, музыка сфер; musica humana – музыка микрокосма, устроения человека; и musica instrumentalis – инструментальная музыка, своего рода посредник между космосом и человеком.
Таким образом, между макро- и микрокосмом изначально установлены гармонические соотношения: макро- и микрокосм подобны друг другу, резонируют один в другом. Однако, эту изначальную гармонию губит своеволие человека, его индивидуальные «диссонансы». Восстановить гармонию способна musica instrumentalis – акт музицирования посредством правильно выстроенных целительных мелодий.
Подобным образом мыслил и Платон, прекрасно понимая при этом и возможный разрушительный для социума потенциал музыки. Платон предупреждает в «Государстве», что «музыкальное образование есть инструмент воздействия, потому что ритм и гармония находят свой путь в потаенные уголки души, мощно ими овладевая», и предостерегает правителей от произвольного изменения музыкального строя, «ибо стили музыки никогда не приходят в беспорядок, не затрагивая при этом самые важные политические учреждения».
Аналогично понимал разрушительное воздействие определённых видов музыки и Аристотель, утверждая, что «эмоции любого вида порождаются мелодией и ритмом», и у «музыки есть сила, чтобы сформировать характер». Так что один способ аранжировки «работает в направлении меланхолии, другой – изнеженности; один вид поощряет импульсивность, другой – самообладание, третий – энтузиазм; и так далее ряд за рядом».
Эмиль Науман в своей «Истории музыки» так резюмирует мысль Платона: «Он настаивал на том, что главной обязанностью законодательного органа было подавлять всю музыку женоподобного и похотливого характера, и поощрять только то, что было чистым и достойным; смелые и бодрящие мелодии для мужчин, нежные и успокаивающие для женщин».
Платон полагал, что нет ничего более влиятельного на внутренние чувства людей, нежели мелодия и ритм. И соглашался с Дамоном из Афин, музыкальным учителем Сократа, что введение новой возбуждающей шкалы может представить угрозу для целой нации и что невозможно изменить ключ без потрясения основ государства.
Таким образом, долг государства – запрещать всякую изнеженную и похотливую музыку и дозволять только чистую и благородную. Ибо:
Нет на земле живого существа
Столь жесткого, крутого, адски-злого,
Чтоб не могла хотя на час один
В нём музыка свершить переворота[3]
Оскопление музыки, триумф революции
Весьма интересный взгляд на историю музыки и цивилизации предлагает композитор и философ Владимир Мартынов в книге «Конец времени композиторов», написанной в конце ХХ века, и изданной в 2002 году.
Мартынов полностью солидарен с позицией Пифагора и Платона, а также и всех традиционных цивилизаций древности, путем которых называет «путём ритуала», в отличии от «исторической цивилизации», осуществляющей себя «путём революции». Послушаем:
«Традиционный человек осуществляет себя в мире путем ритуала, человек исторический утверждает себя путем революции… традиционный человек рассматривает процесс музицирования как ритуал или как некий акт, приближающийся к ритуалу и носящий ритуальный характер, в то время как человек исторически ориентированный рассматривает процесс музицирования как революцию или по крайней мере как акт, ориентированный на революцию и носящий революционный характер. С точки зрения стратегии ритуала смысл процесса заключается в воспроизведении или повторении некоей архетипической модели. С точки зрения стратегии революции смысл процесса музицирования заключается в создании принципиально новой структуры, или, говоря короче, в новации. Таким образом, принцип повторения и принцип новации есть не что иное, как ближайшие проявления стратегии ритуала и стратегии революции».
Мартынов согласен с Пифагором, объединяющим макро- и микрокосм в едином замкнутом пространстве полностью гармонизированного космоса, первейшей творческой энергией которого является музыка:
«Практически во всех великих культурах древности – в Египте, Вавилоне, Индии и Китае – звукоряды понимались как коды классификационных рядов. До сих пор находящиеся в употреблении семиступенные и пятиступенные лады есть не что иное, как звуковысотная классификация семи астрологических планет и пяти первоэлементов. Однако в древности за каждым звуком звукоряда стоял целый ряд предметов и явлений, объединенных связью с этим звуком. В этот ряд помимо планет и первоэлементов могли входить минералы, растения, животные, времена суток, времена года, стороны света, цвета, части человеческого тела, внутренние органы и многое, многое другое. Таким образом, можно утверждать, что звукоряд выступал как первичный фактор упорядочивания мира… Именно поэтому практически во всех традиционных культурах древности и современности понятия звукоряда, лада и мелодической модели связаны с понятиями порядка и закона. Так, древнегреческое понятие «ном», обозначающее мелодическую модель, переводится как «закон» или «обычай». Русское слово «лад» помимо определенным образом организованного звукоряда, обозначает «слаженность», «устроенность», «упорядоченность»».
Обратным случаем упорядоченного «гармонично звучащего» космоса оказывается «произвол», который Мартынов определяет как «совокупность ранее не имевших места действий и нововведенных средств»: в русских певческих рукописях второй половины XVI – начала XVII в. термин «произвол» обозначал мелодические структуры, выходящие за рамки канонических правил и построенные на основе новых «произвольных» законов мелодического формообразования. Именно произвол обеспечивает возникновение новации, и поэтому произвол можно рассматривать как метод, при помощи которого осуществляется стратегия революции, подчеркивает Мартынов.
Однако, в любой традиционной цивилизации произвол пресекается. Всякий традиционный человек так или иначе, более или менее религиозно, философски, интуитивно понимает, что произвол – зло, и ничего хорошего ждать от него не стоит.
Таким образом, европейская музыка Нового времени оказывается явлением совершенно уникальным. Здесь революция становится стратегией, революционный человек – доминантой, а композиторская музыка (революционная по своей сути) – единственно признанным видом музыки. Здесь царит Бетховен, «хватающий судьбу за глотку и высекающий искры из сердца», что с точки зрения традиционных культур представляется не просто исключением, но исключением болезненным, ибо основана такая стратегия на «сознательном разрушении гармонического единства человека и космоса».
Античный космос действительно рухнул к концу эпохи Возрождения усилиями Ник. Кузанского, Коперника, Бруно, наконец, Декарта, а на место гармонично звучащего иерархического единства, в центре которого находится человек, обнаружился бесконечный гомогенный универсум с хаотично плавающими в нем монадами, кое-как связанными «физическими законами»:
«Mundus, как ещё античный коацод, перестаёт быть гармоничным и прекрасным как подобие Бога-Демиурга, превращаясь из совершенного тела-организма в объемлющее все – вместилище. Космос становится Универсумом – единством всего во вместилище. Сохраняя в себе одну только черту античного космоса – его единство, – универсум превращается, пользуясь гесиодовской терминологией, в оскопленный космос: безжизненный и бесплодный».[4]
Таким образом, происходит, как говорит А. Койре, «крушение космоса»: «наиболее глубокая революция, какую только испытал и пережил человеческий разум со времени построения космоса греками». Койре говорит, что эта революция столь глубока и чревата последствиями, что человечество – за редчайшими исключениями (например, Паскаль), за все прошедшие столетия так и не смогло осознать всего смысла и значения произошедшего крушения.
«Крушение космоса», совершенное Возрождением, имеет свою параллель и в музыке: переход «от модальной системы к системе тональной», где аналогом бесконечного универсума становится квинтовый тональный круг».
Таким образом, вместо «иерархической структуры модусов», где каждый звук был на своем месте в гармоничной связи со всеми элементами космоса, явилось бесконечное множество тональностей, управляющихся универсальным законом тонико-доминантных отношений, в которых весь прежний гармоничный звуковой мир растворился без остатка.
«Оскопленность космоса – договаривает В. Мартынов – влечет за собой как следствие и оскоплённость музыкального звука. Последнее – отнюдь не метафора, но совершенно реальное положение дел: конкретным актом, приводящим к оскоплению, является введение темперации. И здесь мы подходим к самым дерзким, скандальным, но, увы, и самым убедительным страницам книги.
Послушаем: «Назначение темперации состоит в том, чтобы препятствовать возникновению фальши, которая накапливается по мере продвижения по квинтовому кругу в сторону увеличения количества ключевых знаков. Это достигается тем, что при настройке инструментов фальшь распределяется равномерно по всем тональностям квинтового круга и, делаясь практически не воспринимаемой на слух, обеспечивает равномерно усредненно-чистое звучание тональностей как с минимальным, так и с максимальным количеством ключевых знаков. Таким образом, равномерное звучание всех тональностей квинтового круга требует жертв, и в жертву приносится чистота натуральных интервалов квинты и кварты, которые подвергаются деформации и из натуральных интервалов превращаются в суженную квинту и расширенную кварту. Несмотря на то что разница между натуральной и суженной квинтой, а также между натуральной и расширенной квартой практически не воспринимается простым слухом, а улавливается лишь натренированным слухом настройщика при настройке, по сути дела, она существует и даже может иметь числовое выражение в герцах».
Последствия произведенной операции оказываются сокрушительны, а именно (вспомним Пифагора): интервалы musica instrumentalis (музыки, связывающей космос и человека) приходят в совершенный разлад с musica mundana (музыкой мира, музыкой сфер) и musica humana (музыкой микрокосма), или, как далее пишет наш автор: «Интервалы, образуемые пропорциональными соотношениями огня, воздуха, воды и земли в космосе, теплого, холодного, влажного и сухого в человеке, будучи натуральными интервалами, имеющими определенное числовое выражение, входят в противоречие с темперированными интервалами темперированно настроенных инструментов».
Таким образом, гармония между космосом и человеком оказывается полностью разрушена: «Ставшая темперированной, musica instrumentalis уже не может являться ни «гимнастикой души», ни «правильной» музыкой-ритуалом, ибо, оторвавшись от мирового гармонического порядка, она становится метафизически фальшивой, «неправильной» музыкой… В этой утрате синтетического переживания физической и метафизической природы музыкального звука, в этом забвении метафизического звучания и заключается суть оскопления музыки, которая, впрочем, благодаря этому оскоплению, обрела новые, доселе немыслимые возможности, сделавшись вместилищем психологического содержания».
Вот такой диагноз ставит В. Мартынов всей классической, композиторской музыке Нового времени: это музыка рухнувшего космоса, полностью оторвавшаяся от пифагорейских начал, утратившая всякую связь с гармонией музыки сфер, и ставшая выражением лишь человеческой индивидуальности (вернее, психики), так же точно оторванной от Бога.
Таким образом, «Хорошо темперированный клавир» Баха, заложивший основания классической музыки, стал, одновременно, и пророчеством её неизбежного конца. Ибо человек, вывалившийся из космоса, обречен на истощение: прокрустово ложе вселенной как «только лишь человеческой психики» неизбежно конечно; мир, детерминированный человеческой природой, исчерпаем.
Иначе говоря, с тех пор как столпы (модусы) на которых держался купол традиционного космоса были обрушены, а модальность подменена тональностью, человек живет на руинах космоса, и ему не остается ничего иного, как только воспевать самого себя в этом руинизированном мире, постепенно спускаясь с хрустально-математических сфер Баха к психологизму Бетховена, сентиментальности оперетт, телесности блюза.
Ещё более радикально высказался о темперации консервативный философ и музыкант Олег Фомин-Шахов, поясняя, что до Баха соотношение высот нот на клавире было кратно целым числам, то есть соответствовало пифагорейским пропорциям божественного космоса. После же реформы Баха высоты нот стали соотноситься как длинные десятичные дроби. Целые числа таким образом были утеряны: так «хорошо темперированный клавир» Баха не только обрушил традиционный средневековый космос, но и дал старт цифровизации универсума.
Добавим, что та же самая (каббалистическая по сути) трансформация происходила в это же самое время и в науке (Галилей-Ньютон-Декарт), идеологии (кальвинизм, просвещение), политике (республиканизм, демократия), самой энергетике жизни, которая стремительно входила в капитализм и подчинялась власти финансовой олигархии.
Деградация действительно налицо: если «в пифагорейской музыкальной теории нормы обосновывались представлением о космосе как числовом порядке; в средневековой музыкальной теории основанием правил считались теологические догматы, а в Новое время – законы акустики».[5]
Итак, от иерархичного гармоничного замкнутого космоса мир покатился к бесконечной, гомогенной и плоской вселенной Декарта (с лежащей в ее основании «специфически европейской идеей равенства»), а от пифагорейского строя, базирующегося на найденных опытным путём, числовых выражениях квинты (2:3), кварты (3:4) и октавы (1:2) (настройка так называемой «Лиры Орфея») к приблизительным, частичным, усредненным тонам равномерной темперации, делающей возможной «равенство интервалов разных регистров друг другу».
Деградацию завершили равномерный ряд из 12 равных ладов Шёнберга, чисто физиологические синкопы джаза, хаотическая и сексуальная энергетика рока, открывающая дорогу чистому инферно посткультуры – таков апокалиптический путь культуры последних 2 тысяч лет…
Примечания:
[1] Michio Kaku. The God Equation: The Quest for a Theory of Everything. Doubleday, 2021
[2] Цит. по Шестаков В.П. История музыкальной эстетики.
[3] В. Шекспир, «Венецианский купец», пер. Т. Щепкиной-Куперник
[4] Павленко А. Н. Европейская космология: Основания эпистемологического поворота. М., 1997. С. 137–138.
[5] См. Чередниченко Т.В. Музыка в истории культуры, Аллегро-Пресс, 1994