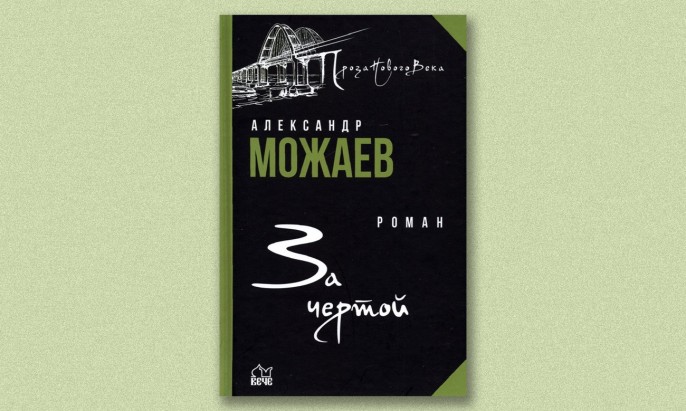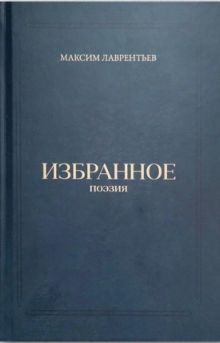Можаев А. За чертой: роман. М.: Вече, 2022.
«А надо ли говорить о том, что написано три-четыре года назад? У нас есть новое …»
Мы спешим, словно все главные книги в будущем. Несемся на сумасшедшей скорости, оставляем позади даже отмеченное восторженными знаками, лихо обсуждаем новый текст, чтобы быстро перезагрузиться и с инстинктом воинствующего критика наброситься – даже вторично: с хулой или похвалой – на очередной словесный артефакт.
Мы не создаем литературный процесс, считаем его недолговечной ледяной горкой, по которой надо мотаться туда-сюда, с эффектом насыщения как бы актуальным материалом. Литпроцесс должен быть лестницей! Литературный процесс должен быть воцарением главных сюжетов, служением им! Однако для этого надо не себя, а достойную книгу ставить в центр, длить ее силу, автора нести в читающий народ, а не персональные суждения и особенно концепции, ибо «концепциями» можно бесконечно и бессмысленно бросаться в толпы своих и чужих. Впрочем, никаких особых толп уже и нет. Многие давно разбежались по иным риторическим базарам, более эффективным.
Недавно прочитал роман Александра Можаева «За чертой» (2021). Я утверждаю, что это сильная проза о нашем времени, она написана в серьёзном диалоге с русской классикой. Роман Можаева объясняет главные события последнего десятилетия не в публицистической, а в действительно художественной речи. Он способен собрать вокруг себя читателей разных возрастов и может претендовать на присутствие в школьной программе. В нём есть боль, историческая трагедия, народ и полностью отсутствует низ, в самых разных формах поработивший русскую словесность последнего тридцатилетия.
Можаев написал о донбасских событиях 2014 – 2015 годов, место действия – граница России и Украины, черта взаимодействия южнорусских людей, казаков – сначала объединённых Россией и Советским Союзом, потом разделенных катастрофой 1991 года. Они идут к новому единству, которого стремятся не допустить айдаровцы. Понятно, что не только они. Герой-рассказчик – Атаман Саня, «cталкер» нового эпоса, совсем не похожего на мир Тарковского: проводник добровольцев, пересекающих черту между относительным миром и почти абсолютной войной.
Не обещая целостного анализа можаевского текста, я остановлюсь на самом ценном для меня – на его религии. Сразу скажу, что специальной метафизики, осознанного богословия, многозначительной сакрализации повествования здесь нет. А что же есть? Есть реализм как спокойное христианство русской классики – сила богочеловеческой правды, начинающейся даже не в молитве или церковном календаре, а в порядке простой жизни, в любви самого произведения к душам и телам, к человечности – способной понимать грех и быть на пути его преодоления.
Но! Все происходящее в романе находится под двойным эпиграфом из Книги Иова: «А мы вчерашние, и ничего не знаем, потому что наши дни на земле тень» (8; 9); «… предамся печали моей, буду говорить в горести души моей» (10; 1). Больше никаких следов конкретного присутствия ветхозаветного страдальца Иова в «За чертой» нет. Кроме слов «раба Божьего Ивана Ильича»: «Иов и Христос не такое терпели, и я с Божьей помощью одолею».
Житейских и военных проблем здесь так много, что, отметив и почти не заметив присутствие библейской цитаты, можно перейти к более очевидным речам и событиям. Впрочем, со мною иначе. Даже при отсутствии Иова в эпиграфе, я бы говорил о нем при разборе романа Можаева.
В русской прозе рубежа тысячелетий авторы часто вспоминают о страдальце из земли Уц. Не для проповеди терпения и познания Бога в обрушении земного счастья. Нет! У Пелевина и Сорокина, Шарова и Михаила Шишкина (признан в РФ иноагентом) Иов – гностический инструмент отречения от мира, в котором Бог и государство выстраивают масштабный тоталитаризм: тела, избыточной суеты, обязанностей, смерти. У Александра Можаева автор, сюжет и герои воссоздают соборного Иова. Он должен убедить, что происходящее вокруг Луганска – не к гибели, а к новой жизни русского человека.
«Они идут не за деньгами и не за славой, хотя каждый из них в тайне от других и мечтает совершить для Родины подвиг. Какой он, этот подвиг, они еще не ведают, как и не ведают того, что, покинув свои уютные квартиры, поборов страх и выйдя на эту тропу, они уже совершили свой подвиг», - так говорит Атаман о переходящих линию фронта, порою навсегда оставляющих дом в прошлом.
«Никто не должен усомниться во мне. (…) Я давно смирился с мыслью о скоротечности жизни. (…) Почему я здесь?» Это слова рассказчика, чей путь между растяжек и засад. Они сказаны на первых страницах. Есть шанс, что они будут только нарастать. Но мои ожидания становления образа и речи Иова во внутреннем мире главного героя не оправдались. Иов не он. Точнее, не только он. Атаман уходит от глубины сложного, тяжкого, но Богом данного кризиса, ради смирения протагониста – способного отказаться от боли, от диалога с Небом и просто – рассказать.
Роман строится на сочетании эпической горизонтали с эпической вертикалью, на переходе горизонтали в вертикаль. Советское детство и юность – фрагменты казачьей жизни, которые складываются в историю счастливого народа: колядование школьников, рождественский стол у Павла Николаевича, хоккей на льду Малашкиной ямы, военные воспоминания матери о красных сапожках, запой Зынченко-старшего, анекдотичная женитьбы Кудина и его верность данному слову, свадьба Николая Носача и Марии, поход Сани с Жекой и Кубаном на Кабана, смертельно опасный переход через полые воды Деркула.
Да, это Иов экспозиции, когда он служил Господу своим соблюдением понятных законов, был праведен в житейской ясности своей, был окружен семьей и друзьями, пока еще не ведал о будущей духовной войне – вовне и внутри. Необязательно говорить так! Можно и по-другому. Просто хорошо на сердце и в уме, когда перед тобой Кудин и Натаха в их шолоховском напряжении, влюбленные друг в друга Бармалей и Люда Зынченко, отец Никодим в его станичном, а не высокопарном служении.
Когда я уже разогнался в чтении «За чертой», меня стала одолевать странная мысль: Бог приходит к читателю в неочевидном единстве священника Никодима (который всегда с казаками, может и много водки выпить) и рассказывающего и действующего Атамана (не самого постоянного прихожанина и молитвенника). Их православие – спокойное напоминание иерея о грехах и покаянии и столь же спокойное обнаружение главным казаком религиозных начал в течении жизни, стремящейся к миру. И при этом – стремящейся к войне, когда она становится дорогой к миру – в душе и селениях. Так горизонталь становится вертикалью, а быт служит более высоким началам.
Возможно, я не прав в упрощении, допущенном в предшествующем абзаце. Есть Николай Носач, который с каждым движением сюжета всё более религиозен, а после смерти жены при бомбежке – уходит в монастырь. Есть юродивые (конечно, почти юродивые), переносящие религиозную инициативу с рациональной четкости в борьбе добра со злом на интуицию преодоления логики: Павел Николаевич Дуня с его музыкой и стихами, Лёха Гроза с его весельем и широтой, всегда говорящий правду Павел Николаевич.
В любом случае, этот простой романный Господь, не впадая в риторику осуждения и в столь понятную сейчас публицистику, помогает понять, в чем иудина беда некогда своего Блажеёнка, сросшегося с корыстным украинством, и Колывана – иуды более высокопоставленного, способного предавать и убивать русских командиров.
Война есть, воины здесь, есть и мученики – как сожженный Кудин, и мученицы – как Наталья и Мария. Сначала «в возможность войны не верил никто», ведь «в былые времена никакой Украины не было, границы никто не знал Деркул делил лишь земли Митякинского и Станично-Луганского юрта области Войска Донского». Потом – украинские танки, артиллерийские удары по гражданским, необходимость и очевидность русского сопротивления.
Но это не «готическая» война, как в книгах Германа Садулаева, когда он призывает нас обрести германо-скандинавского Христа в неоевразийской реконструкции скифского христианства. Это война – реалистическая, без упоения войной как религией. Война у Можева растет из разрушенного быта, не из идей! Почитайте страницу про умирающего айдаровца.
И никаких иллюзий! Кругом лицемерные и трусливые «друзья Иова». Как местный Паша с его отречением от защитников своей земли: «Не рвите понапрасну сердце, - Путин с Обамой без нас порешают: где нам быть и с кем нам жить…». Сатана и здесь дух мизантропии и всепоглощающая «любовь к себе», стремление превратить казаков в жлобов, променявших честь и землю на «гарантии». Нет в романе ни одной «жены Иова», призывающей «похулить Бога и умереть». Все женщины, приглашенные Можаевым в повествование, прекрасны.
А Иов? От эпиграфа к сложному пасхальному финалу он – главная цель романа. Это не герой роковых вопросов, каким его видят разные победители «Большой книги», а образ трагической сложности, к которой должен прорваться русский народ. Иов – это внутренняя форма нашей будущей победы, способность говорить с Богом в нарастающих проблемах, умение превратить жалобы на неудобства в сознание пути и присутствие духовной лестницы. Иов – отказ от навязанных «друзьями» примитивных оценок, выход из вульгарно математической модели мира, где нам без усталости твердят о прелестях правильного мира, где Иова давно никто знать не хочет.
Иов – мир и война, когда убежать или просто не заметить – зло. Иов – это за чертой. Иов – это лик Христа, когда хотят усилить звучание Его человечности.