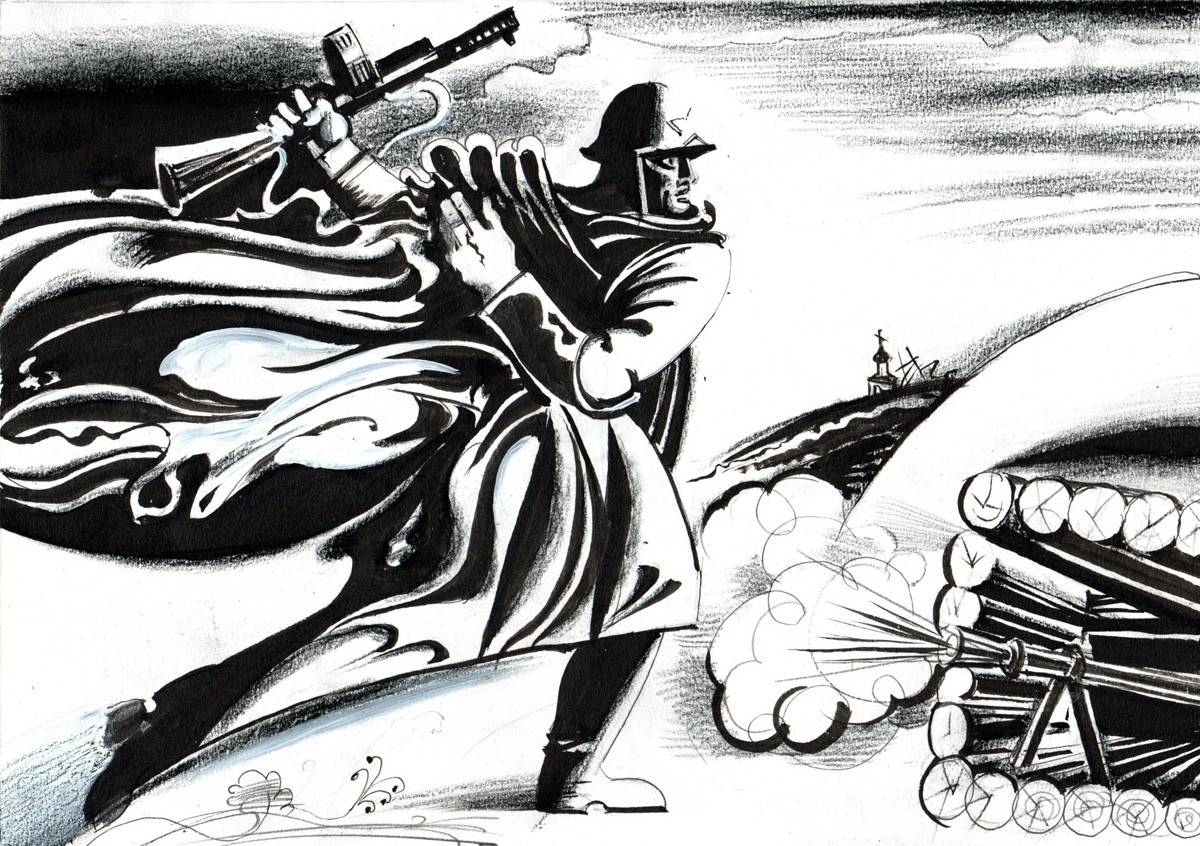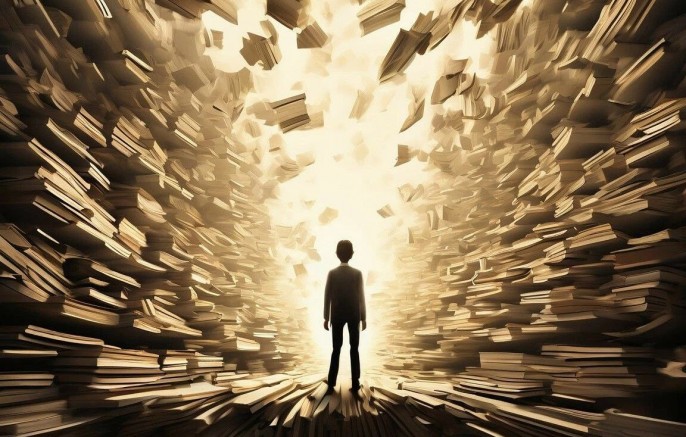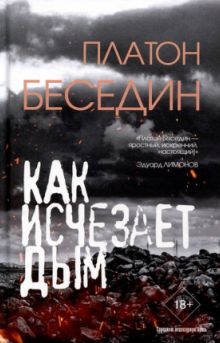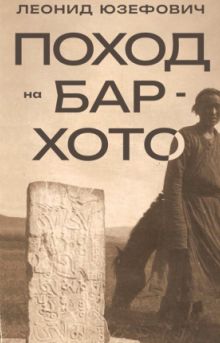Желающие узнать о конференции литературоведов и критиков «Большой стиль» (Москва, 5 – 7 сентября 2024 года), часто открывают материал, который начинается так: «Что такое большой стиль? Это стиль переломной эпохи». Я не согласен со словами Нины Ягодинцевой. Нескончаемая вереница «переломных эпох», навязчивая двойственность, согласие с колебаниями не просто присутствуют в нашей жизни без всяких конференций, но являются основным содержанием потерявшейся за тридцать пять лет культуры.
Следовательно, если дерзновенно ставить задачу освоения Большого стиля, надо научиться знать, а не сомневаться, обладать волей против надоевшей амбивалентности. Эпоха, отраженная и преображенная в нас, должна быть не переломной, а состоявшейся в ключевых задачах и образах, которые можно описать в категориях по-настоящему исторической поэтики. Поэтикой современной словесности должна стать система усилий, не только констатирующих мощный хаос и слабый космос новейшего русского времени. В кризисе надо увидеть будущее, найти его в скромных сюжетах настоящего, и главное – найти силы для императивного созидания, когда переломы и вывихи преодолеваются ясным сознанием должного.
Везде в России не хватает людей. Почему избыток должен быть в Большом стиле? Повсюду «царство маленького человека», который закономерно стремится выжить в границах эпохи, в очередной раз желающей быть названной «переломной». Разумеется, я говорю не о каких-то внешних стадах обывателей, бытовиков-гедонистов и всевозможных отрицательных героях житейских равнин. Да, я говорю и о них. Однако маленький человек в нас, маленький человек во мне. Маленький человек уже не гоголевский, не чеховский, а сегодняшний – серьезный противник Большого стиля. Я постараюсь представить его сознание тезисно. Представить без последней рационализации, сохраняя алогизм естественного существования.
Что же нашептывает самому себе наш маленький человек, внешний и внутренний герой? Всё решается не нами. Главное делается только серьезными деньгами. Времени моего остается лишь на безопасную прагматику. Не мешайте культуре нашей обеспечивать желанную релаксацию. Все-таки либерализм политический не имеет альтернатив. Солнце восходит на Западе. Надо дождаться победителя. Истина лишь в свободе самовыражения. Здешняя власть всегда агрессор. Вся мировая литература работает на мою полную независимость. Любая ваша соборность пахнет всем известным тоталитаризмом. Я хочу просто и нормально прожить. Я не хочу никого и ничего выше. Я, Я, Я.
Не хватает таланта для чеканной точности, поэтому поясню: особо маленький человек – не тихо живущий бессловесный апологет привычной всем нам горизонтали, а субъект идейный – не без наглости и агрессии отстаивающий право быть своеобразно маленьким, и при этом – удаленьким: в атаках на всё, что представляется ему вызывающе большим, унижающим его тренды. Те, кто давно в социальных сетях, хорошо знают, как эти интеллигентные ребята поддержат любой модернистский диалог, пропоют осанну всем деконструкциям, но – что происходит с ними при появлении актуальных политических сюжетов! Целуя каждую личину «современного искусства» как лик истинной свободы, маленький человек особенно возбуждается там, где можно укусить всё русское, продемонстрировать просвещенный западный вектор, на банальнейшем сленге отразить политическую правильность, правильностью этой подмигнуть партнерам. Церковь для них устарела, государство – тиран, половые ужимки гендерных неформалов – торжествующая правда прогресса. Маленький человек мнит себя большим пропагандистом собственной ничтожности. Иногда даже жаль его, ведь он часто молод, так молод, что не знает иных эпох, кроме эпох переломных, когда – позволено всё, если всё для себя. А ведь так учили его, порою для подобных движений и растили.
Большой стиль должен помочь таким субъектам осознать свою природу. И не надо сомневаться, что это осознание возможно. Оно необходимо. В том числе, с помощью художественной литературы – некогда по-настоящему большой, а сейчас не совсем. Да она и сегодня есть – большая: Андрей Антипин, Вера Галактионова, Юрий Козлов, Захар Прилепин, Александр Проханов, Михаил Тарковский. А разве не становится большой и важной диагностикой то, что пишут Виктор Пелевин и Михаил Елизаров, иноагент Дмитрий Быков и иноагент Людмила Улицкая, Леонид Юзефович и Евгений Водолазкин? Сейчас модно проклинать чужих, не читая. А разве не лучше заставить их тексты работать на решение задач Большого стиля? Да и чужие ли: Алексей Варламов или тот же Водолазкин? В кулуарах конференции, реальной и символической, вневременной, эти вопросы звучат часто. Как и вопрос о Прилепине, у которого везде, на всех флангах, хватает недоброжелателей.
Является ли Большой стиль явлением пафоса, вызывающим в памяти классицизм или соцреализм? Риск есть. Но атмосфера критицизма внутри и вокруг должны помочь не впасть в фарисейство. Два примера. Для первого привлечем краснодарского литературоведа Олега Мороза, для второго московского критика Льва Рыжкова.
Мороз сделал на конференции доклад о влиянии теории Бахтина на современную литературу. Очень важный доклад. Никто не сомневается, что Бахтин прекрасен и необходим. Однако культ его имени, научного словаря и метода привели к удивляющим последствиям: великий филолог-классик стал знаменем маленьких людей, которые не сразу, постепенно перетащили кумира на небрежно нарисованный постмодернистский корабль. Там и смеются уже несколько десятилетий вместе с адаптированными под клоунов карнавальностью, полифонией, амбивалентностью. И клоуны цирковое представление с Бахтиным не собираются заканчивать. Завоеванный лилипутами гигант, взорванный своим же диалогизмом, помещен в такую зону фамильярности, что пора и кое-что объяснить.
Олег Мороз и объяснил, а я понял так. Бахтинская теория романа, не свободная от изъянов прославления этого жанра как высшей точки литературности, заставляет новейших писателей служить роману, хотеть его присутствия, пользоваться премиальными последствиями, создавая не новые смыслы, не поэтику нашего времени, а воспроизводя в неискусных редукциях прежнюю матрицу романности, бездушную копию былых побед, жалкое постмодерн-подражание отработанным сюжетам. Да! Когда мы клянемся в верности действительно большим, всегда ли светел наш путь? Может, лучше создать новый жанр, чем прикрыться надежным старым?
Конференция «Большой стиль» и организовавшая её премия «Слово» нравятся далеко не всем. Позиция либеральных противников понятна, мне гораздо интереснее конфликты на правом фланге. Лев Рыжков поддерживает СВО и не почитает демократию. Он не в числе приглашенных на конференцию. Вот он пишет нечто гневное, полное мизантропии, замаскированной под требование справедливости. Он саркастически отрицает и без него прошедшее мероприятие, и сильного современного прозаика. Называется статья «Явление нового мастера диктантов и медовая хоругвь Михаила Тарковского». Опубликовано на сайте Alterlit.
Отличный пример «малого стиля» с гротескным высокомерием, неумением анализировать текст, с жаждой доминировать над всем, из чего получилось вырвать цитату и с лихим смехом ее как бы разобрать. Рыжков называет это изнасилование словесного материала «новой критикой». Так, что здесь нового? Статья кричит об одном: вы, подлецы, не взяли меня – лучшего! – на форум; вы все, бестолковые, неизвестные или заумные, приехали пилить государственные деньги; вам, участникам «Большого стиля», «близость кормушки помрачила разум». «Значит, всем срочно надо становиться патриотами и сосать денежки из казны. Отсюда и конференция, отсюда и отсутствие на ней «новых критиков», - читаем на Альтерлите.
Рассерженный Лев в парадоксальном осмеянии самого себя утверждает одну из доминант этого «нового» метода – унизить другого, разобраться с личными обидчиками, выхватить фразу из контекста, объявить всех графоманами, устроить в соцсетях танцы для уязвленных самолюбий – вроде бы патриотично настроенных, отрицающих всех васякиных и рябовых, но – каких же злодейски пустых! Конечно, книга Тарковского «42-й до востребования» объявлена никому не нужной, нигде не продающейся, страдающей невозможным языком, представляющей сборник диктантов, типичный, как называет Рыжков всё подряд, «буквопродукт». «Суровый таежный человек развлекается, как может», - хамит «новый критик», удаляясь от Большого стиля так быстро и смешно, что нелишне спросить: а не случаен ли этот патриотизм, в котором низ активирован на все сто? И еще один вопрос, косвенно заданный рыжковским фарсом: не важнее ли внутреннее пространство, из которого наносится удар, тех объектов, по которым удар и наносится? Ведь – зачем это скрывать! – «новая критика» часто атакует тех, кого бить нужно. Впрочем, она атакует всех.
Осторожно, зная цензуру, Лев Рыжков подмигивает, что государство придумало «Большой стиль». Что ж, тут сложнее, чем кажется альтерлитовскому волку. Большой стиль не может не быть связан с властью. Дело не только в дотациях. Дело в мысли о трудной судьбе человека, о необходимом взрослении интеллигента, который расстается с нигилизмом ради служения не только внутренним богам.
Диссидентство, обернувшееся иноагентством, с каждым новым шагом отрицания России убеждает, что эпос – как жёсткий, во многом чёрно-белый способ оценки главных конфликтов – придуман точно не современными патриотами, а их весьма успешными оппонентами, считающими себя призванными на войну очень давно. Так что – раствориться в госмасштабе, стать одним из винтиков машины, которая всегда сильнее и правильнее тебя? Понимая мрак русофобии, стать подчеркнуто официальным светом? Не думаю. В отношениях с государством Большому стилю нужна интрига, неизбежно трудная.
Мне сложно критиковать Захара Прилепина: он был там, где не был я. Однако, читая «Некоторые не попадут в ад», удивлялся. Такой умный, сильный известный, владеющий словом, автор и герой собственной донбасской истории, всё ждет, что и когда скажет Император. А если Император ожидает, когда ты, большой русский писатель, преодолеешь некоторую вялость историко-художественного замысла, войдешь в сюжет себя сознавшей воли и сообщишь из побеждающей поэтики поступка, когда и что делать и говорить!
Мастер словесности, ожидающий (я уже о нас, не о Прилепине) приказа или разъяснения сверху, функционирующий от премии до премии, смотрится провально, но привычно. Если этот стиль действительно Большой, предстоит совместная работа с государством по его очищению от негодных элит, рожденных постсоветским распадом и построением нового фарисейства. Они сумели обожествить наживу и связанные с нею контексты. В бюрократическом мире страдают иначе, чем в иных местах. Там цветет чиновничье ницшеанство с четким пониманием этикета. Словесность Большого стиля, включая литературу и публицистику, эссеистику и блогерство, обязана стать оружием государства в борьбе с самым устойчивым демоном – с кастовым духом самодостаточной бюрократии, грозящим переместить Россию в злейший анекдот. А если не так, если основные проблемы Русского мира – и уже почти мировая война, и кризис правящего класса – будут замалчиваться, то зачем вообще Большой стиль?
В словесности легче трудиться одному, работать на себя, в персональном тексте находить и утверждать экстремальные точки смысла. Скажу гордое слово, полное эгоизма: мне было бы интересно, не входя в союзы, создать малую теорию новейшего Большого стиля и предложить ее на рассмотрение соратников и противников.
И всё же это искушение избыточным романтизмом. Надо не просто нести, есть смысл проповедовать бремя коллектива и спасительную силу командной игры. Возможно, настоящую пользу принесет немногочисленный штаб одержимых прагматиков. Опять оксюморон? Да, признаюсь и каюсь. Размах дискуссий должен быть впечатляющим, действия по сближению союзов правого фланга должны быть смелыми, битвы (а не умолчания!) с иноагентами – заметными, площадок для обсуждения лучше – много, и вместе с тем рад буду приветствовать координацию без разлива демократии, присутствие лишь нескольких мастеров словесности, согласных совместить личную литературу с обязанностями постоянно включенных функционеров.
Но они должны быть идеологами словесности (не только литературы!) и процессов, с ней связанных. Да, литература – непредсказуемая игра глубоких, меняющихся днем и ночью теней, тайный модерн в полной тишине пробуждающегося сознания. Внимательный интерес к неожиданной свободе творца, совершающего исход из всех рациональных проектов, может помочь литературному арбитру не стать юридическим лицом. В Большом стиле есть место искренности и личному безумию, лишь бы они не стали подражанием бесполезным фейкам о том, что требуется от настоящего писателя.
Но если центр управления, живущий созданием единого сложного сюжета нашего литпроцесса, не будет создан, Большой стиль уйдет в мир метафор, интересных сочетанием советских масштабов и нашей нереализованной мечты. На либеральном фланге этот единый сюжет придумывают без усталости.
Еще несколько соображений и фабул, на возрастающей скорости, как вопрошания. Мы давно уже отдали либерпроповедникам многих гениев, например, Бориса Пастернака. Быков* написал о нём свой тысячестраничный символ веры, признание в любви Живаго – герою и человеку, которого сотнями рук тащат на специфическую западную Голгофу. И я, например, согласился с этим жестом. Не подвергая сомнениям, говорю о живаговщине как форме литературоцентричной, противогосударственной, антирусской религии. И Михаил Шишкин в ней, и Борис Акунин*. И Марина Степнова, при всех ужасах своей поэтики, тоже в мягкой живаговщине. А не побороться ли за Пастернака и Бродского – хотя бы так, как это десятилетие назад делал Владимир Бондаренко? И обязательно ли соглашаться, что весь наш Серебряный век против классической России?
Онтология современной русской литературы ужасающе бедна, особенно – прозы. Часто сознания, ответственные за произведения, просты до примитива и примитивны до трэш-мировоззрения. Многие филологи будут до конца света нести «весть» о «смерти автора» и «нарративных стратегиях», об «отсутствии реализма» и «победах субъективной рецепции». Про оккупацию Бахтина постмодернистскими нарраторами мы уже говорили. Но это не исправит случившегося - провал метафизики в новейших повествованиях достигает шокирующих показателей. Конечно, никто не обязан быть христианином. Разумеется, говорить о запланированном церковном движении литературы – глупость, а занятия библейскими сюжетами и подтекстами – частность значимых энтузиастов. Но не взять ли на себя ответственность - и спросить: ты, пришедший в мир русской литературы, хоть что-то знаешь о её православных истоках? Ты, звенящий пусто в романах «Вера» (Александр Снегирёв) или «Дождь в Париже» (Роман Сенчин), может ты сам фатально пуст и еще не поздно что-то понять и перестать транслировать «ересь» - не религиозную, а идейно-художественную? Маленькие люди часто гневаются, что остались большие. Так уж повелось, что у нас им часто дают премии.
В один из вечеров недавней конференции две ученые дамы, не без ёрничества и агрессии, высказались примерно так: «А что плохого в творчестве Улицкой*? Её читают, о ней с удовольствием пишут диссертации. Там присутствует нравственный смысл, там много реального, житейского, далекого от идеологии. Почему вы преследуете хорошего автора? Вы же христиане вроде. Почему, опираясь на притчу о прощенном разбойнике, не прощаете, не делаете шаг навстречу?» Так может не просто ответить, а, перестав делать вид, что «никого нету кроме нас», биться с другими – изучать их поэтику, чтобы рассказать о том, как устроена она со всеми сюжетами отречения от России и спасительной эмиграции?
Так что такое Большой стиль? Это жажда тоталитарных начал в культуре, молитва о государственном присутствии или закономерная цель новейшей словесности, которая желать преодолеть разные «негативные катарсисы», проще сказать – хорошо продаваемую страсть к тьме? Это всего лишь трехдневная конференция или рыцарский орден на просторах Русской Идеи?
А что такое Большой стиль для меня? Несогласие с «горизонтальным положением», с гностическим презрением к бессмертию нашей души, с превращением литературы в мнимо коммерческий проект, за которым стоят все те же идеологи расчеловечивания, субъекты трансформации Слова в массовые слова о весьма серьезных, бронебойных «пустяках». Большой стиль – это лестница, с которой мы можем упасть и разбиться, потому что всякая высота – трудно и больно. Но подъём необходим, иначе потеряем не только литературу.
_____
*признаны в России иноагентами