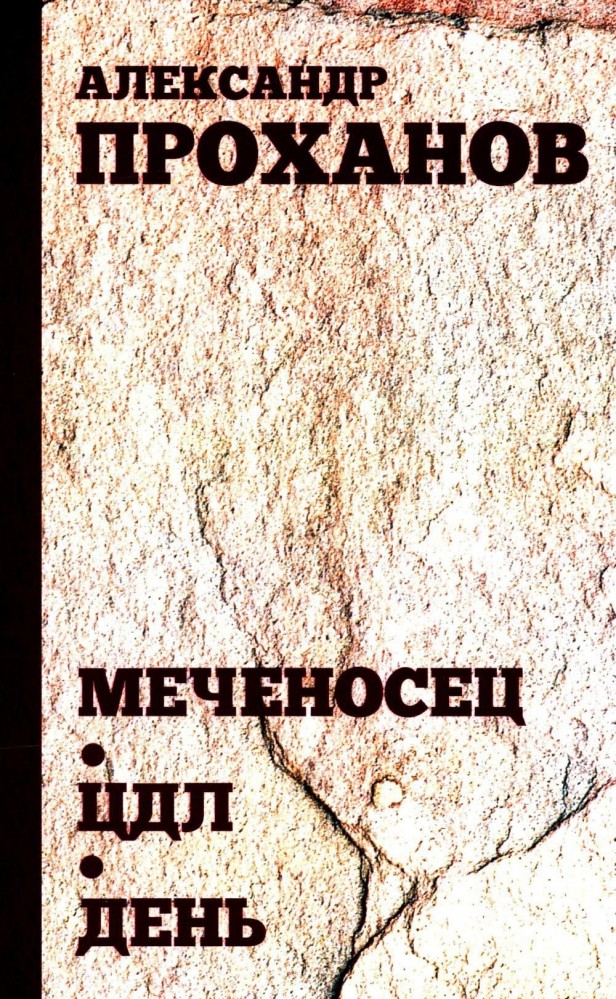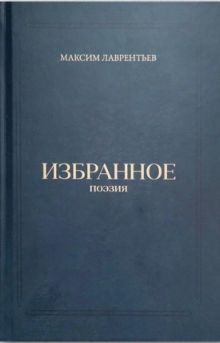Проханов А. А. Меченосец. ЦДЛ. День. М.: Вече, 2024.
Слишком часто русский интеллигент, осматривая ландшафт своей неизбежно двойственной жизни, останавливается глазами и сердцем на государстве, вздыхает в очередной раз о бренности сосуществования души с платформами габаритных фарисеев и, махнув рукой на все сложные контексты, в потаенном разуме своем формулирует раз и навсегда: государство – чудовище! И добавляет с пафосом ритуального обособления от скверны: а русское государство – особенно!
Можно недобро улыбнуться предложенной рационализации, но в отечественной прозе рубежа тысячелетий большинство успешных сюжетов растут именно из этого отрицания. Все, кого называют иноагентами, славят доктора Живаго и отрекаются от Левиафана. Понятно, что Левиафан – это русская жизнь в том вечном «тоталитаризме», который меняет цвета и символы, но не суть. Суть всегда левиафанова. Не только преображения, но даже реформ ждать не стоит. Монстр вне эволюций. Следовательно, те, кто считает наших живаговцев очень мирными творцами, сильно ошибается. Они – идеологи и проповедники.
В основе поэтики романов Александра Проханова – ритуализация истории: и национальной, и всемирной. На территории России состоялись четыре империи с разными евразийскими знаменами: Киевская, Московская, Петербургская, Советская. Герой нашего времени должен служить делу создания Пятой империи. Цель эпична, эпос здесь внутреннее содержание поэтики. Журналистика, публицистика, политика, романистика – грани и полюса единого Слова, в просторных границах которого новое государство начинает свою идеальную жизнь.
Роман «Меченосец» - о том, как данная идеальность, великая вертикаль сталкивается с тяжкой инертностью всех возможных видов материи, образующих государство. Это особенно заметно в избранном автором времени: 1985 год, переход слов о несогласии с советским Левиафаном в практические дела по демонтажу ветхих конструкций. Однако главная мысль «Меченосца» трагичнее: остаться светлым во времена апокалиптических разломов не удастся даже тому, кто знает страшную цену взаимодействия с тьмой. Рядом с Христом хочет воплотиться кто-то совсем иной, из апокалиптического времени. А в России апокалипсис всегда.
Во всех известных мне текстах Проханов обращается к императивным положениям средневековой поэтики. Поэтому неожиданный вопрос – «Как в «Меченосце» с Данте?» - представляется уместным. Не будем искать буквального соответствия, педантично требовать присутствия флорентийской матрицы, но Вергилий с Беатриче при такой постановке вопроса должны обнаружиться. Они и присутствуют в молодой Варе, объединяющей знание и любовь в одном лице. Чтобы встретить Вергилия и Беатриче сразу, надо отбить жертву у двух хулиганов, представиться космонавтом и начать – спуск и подъем одновременно. Прохановский Данте помнит о божественном мироустройстве, однако главные движения происходят в тяжелом космосе государственности. При помощи спецслужб, с закономерной активизацией спецслужб в самом себе.
Погружение в ад совершается при участии красивой, на всех кругах принимаемой женщины-социолога. Впрочем, тут же начинается и восхождение. Первыми героя ожидают субъекты современного искусства. Они напоминают сатанистов. Далее Листовидов окажется на кухне по-разному верующих русских патриотов. Затем настанут дни встреч с иудеями, неофашистами, комсомольскими лидерами, украинофилами. Чем больше старается этот Вергилий, тем больше обнаруживается присутствие Беатриче, и единственной силой противостояния адскому многословию интеллигентских субкультур становится любовь. Не только духовное притяжение, но совместность, воплотившийся эрос и, как кажется Листовидову, зачатый ребенок. Варя – божественная любовь в странных одеждах социологического опыта – должна вознести над мрачными парадоксами госбезопасности!
В типичной для Проханова каталогизации духовно-политических сил открывается дантовский сюжет. А в случившейся инверсии этого сюжета звучит один из главных вопросов «Меченосца»: как быть, если полномочия госбезопасности распространились и на метафизику любви? И Вергилий, и Беатриче – профессионально необходимые симулякры вертикального движения в пространстве, где вообще вряд ли возможно движение по небесной лестнице!
«Государственник умирающего государства» (так аттестован Сергей Листовидов) обнаруживает, что не любимая Варя-Беатриче руководила восхождением, а майор Ольга Крыжовникова. На высшем уровне гэбистской игры сотрудница воплотила и влюбленность, и постельную совместность, и даже особую форму невроза. Ведь Листовидов уверен, что именно он, предотвратив ранее угон самолета, оказался виновен в смерти талантливейшего Олега, первого мужа Вари.
Одно замечание, факультативное, совсем личное. Автору Варя так важна, так духовно любима им, что простой мыслью о подмене не обойтись. Вариант «А» (никакой Варвары вообще не было, только сыгравший ее роль майор) в моем восприятии уступает место варианту «Б». Любовь состоялась в душе главного героя, следовательно, Варя была, есть и должна быть. Она жила, любила, вела Сергея Максимовича – и была уничтожена служительницей культа «обновленного государства». Следовательно, Крыжовникова не переодевалась в романную Беатриче. Она ее распылила, она Варю уничтожила!
И еще одно – личное. Когда лет десять подряд, не отвлекаясь на суетное, занимался Леонидом Андреевым (напомню хотя бы о рассказах «Иуда Искариот», «Тьма», о романе «Сашка Жегулёв»), почувствовал его главный авторский миф, фигуру жестокой андреевской веры. Суть мифа такова: чтобы дело чистого, светлого Иисуса по-настоящему состоялось, нужен железный, стратегически мыслящий, тёмный Иуда; без фиктивного предателя, этого обреченного сотрудника «вечной госбезопасности», даже до креста не добраться. С одной стороны, здесь поднадоевший гностицизм Серебряного века. С другой, убежденность в необходимости Стратега, который сознательно становится трагическим субъектом управления светом, Левиафаном на службе у Господа Бога.
Я понимаю, что слова предыдущего абзаца звучат тяжко. Напомню лишь, что речь идет не о христианском сюжете, а о материи социальной. В случае с Андреевым из бездн авторского отчаяния выплывает фигура русской революции. «Иуда Искариот» и «Тьма» - пророческая проза: дикое сращение Спасителя и Предателя. Миф не менее властный, чем Христос из «Двенадцати».
Андреев – в постоянной тяжбе с властью, Проханов – государственник. И окончательное решение главной проблемы разное. Однако в прохановской мифологии (думаю, в «Меченосце» особенно) вопрос о нравственном падении, о предательстве своей души ради «общего дела», порою страшного – звучит не тихо. Одно дело – спасение себя под защитой церковной соборности, дело другое – поставить небесную лестницу прямо на поле истории, где идолы перемешаны с ангелами.
Не зря в романе вспоминают равноапостольного императора Константина – настоящего римлянина и подлинного христианина, который сумел сделать, казалось бы, невозможное: направить империю с обожествленными правителями к Новому Завету, принять Богочеловека в границах оппозиционной Ему административной (наверное, неизбежно фарисейской) системы. Что ж, история Рима преобразилась в явлении Константинополя, он еще тысячу лет оставался главным городом земли.
Когда в «Меченосце» появляются, а потом и возвращаются агрессивные кухни разноликих оппозиционеров, начинает набатом звучать вопрос: как эти наглые вопли «хочу, страшно желаю уничтожения государства!» свести в гимн образу и подобию божественной власти – да, всегда несовершенной, не дотягивающей до светлой утопии, но просто необходимой для охраны человека от всегда близкого озверения?
Если бы Проханов закатал всех «извращенцев», «националистов», «иудеев», «фашистов» и «комсомольцев» в асфальт противорусской антисистемы, он был бы с государственным Левиафаном. Это закономерно, но и слишком просто: петь гимн Советскому Союзу именно там, где он разрушается. Но всё сложнее, всё мрачнее, как и образ генерала ГБ Клубникова. Кто он – Иуда, уже начавший подлое служение приближающейся элите и дающий советы по аккуратному превращению неформалов в действительную власть? Или странный пророк с амбивалентной душой, видящий неизбежную работу нынешних разрушителей на масштабной стройке будущей империи?
Сергей Листовидов – ответ на этот вопрос, и он переводит историсофский фарс в трагический контекст. Да, государство – Левиафан. Варя – не Беатриче. В ближайшем будущем случится не победный расцвет России, а ее тяжелейший кризис. Легче всего Листовидову выбрать какой-нибудь совершенно конкретный путь. Например, первый: отбросить личные эмоции, драматические ассоциации и просто выполнять очередное задание. Или путь второй: порвать с системой, обвинить ее в иудином грехе и воплотиться в одиночном плавании – деньги делать в согласии с новейшей экономикой, а то и в диссиденты податься. А третий путь – просто жить, счастье вдали от спецслужб строить.
У Гамлета тоже были очевидные подсказки: хоть Клавдия быстро убей, хоть прости всех и найди Царство Божие в монастыре, или с Офелией вместе поменяй Эльсинор на какой-нибудь иной замок. Но принц выбрал самое сложное: на территории зла, не упрощаясь и не отрекаясь – сразиться с чудовищем в неочевидном поединке, зная, что чудовище в этом случае обязательно проникнет и в твою душу. Гамлет входит в пространство ужаса, чтобы осветить его ценою жизни.
Впрочем, мир Проханова связан с Гамлетом значительно меньше, чем с Дон Кихотом – еще одним ренессансным борцом со злом. Когда-то я писал об этом в «Литературной газете», анализируя роман «Человек звезды»: «Проханов – Дон Кихот? В границах замысла испанского писателя эпос Дон Кихота оказывается романом. Поэтому у каждого читателя свой Рыцарь печального образа. Один считает его жертвой дурацких книг. Другой читатель наблюдает за неисправимым романтиком. Третий, как Достоевский, сообщает, что именно этой фантазией человечество оправдается перед Богом. Что предпринимает автор «Человека Звезды»? Он совершает движение, противоположное тому, которое совершил великий испанец: превращает роман в эпос. Будто сам Дон Кихот наконец понял, что причины его беды не в ошибочном чтении и не в разумном устройстве мироздания, а в сомнениях писателя, который не может не плакать о рыцарстве, но должен признать, что оно проиграло. Тогда Дон Кихот разрывает границы создавшего его сознания, порабощённого двойственностью, и сам, уже без помощи реализма, начинает писать текст о самом себе. Мельницы и постоялые дворы исчезают. Возвращаются Бог и дьявол, рай и ад. Метафизические силы вновь оказываются объективными. Александр Проханов – за Дон Кихота, но против наследия Сервантеса, погрузившего человека в романный мир, состоящий из бесконечных версий и точек зрения. «Человек Звезды» настаивает, что Россию спасёт эпос».
«Меченосец» сложнее «Человека звезды». Кихотизм главного героя должен сохранить его рыцарем общего дела в самые жестокие дни существования государства, когда ты сам себе можешь представиться далеким от спасения Иудой. Листовидов весь роман продирается через искушение «не быть» в одном деле со спецслужбами, объявить миссию невыполнимой.
А в чем миссия? По-гамлетовски понимая, что государство – Левиафан, до самого исхода - кихотически, сердечно, по-христиански бороться за его преображение, не соглашаться с тем, что государство никогда и никуда не восходит, а только требует всё новых жертв. Переиграть дьявола на его территории, сделать Левиафан транспортным кораблем, плывущим из столь понятного мирского ада к берегам эсхатологической победы! Чтобы героически победить Левиафана, надо жертвенно, не без юродства стать им – остаться государственником в окружении фарисеев и демонов! Сражаться там, где победа вообще кажется невозможной.
Прав ли я в утверждении, что у Проханова сама литература, понятая и принятая во всей шири сражающейся словесности, и есть это мощное государство, способное обуздать Левиафана, продлить историю Русского Рима?