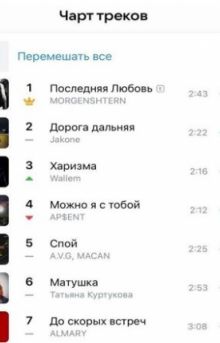После молочного киселика идёшь во двор. Раньше ты в это время спал. Вспоминаешь, как лежал, словно в облачках — на мягенькой бабушкиной перине и подушке. Силился, силился не уснуть, сонными глазами водил из стороны в сторону, на картины глядел - «Рожь», «Охотники на привале» и «Утро в сосновом бору». Рядом бабушка — сказку тебе рассказывала, тихим голосом, чуть нараспев. Про Ивасика-Тарасика, что Бабу-Ягу обманул и в печь усадил. Будто качалось всё вокруг плавно — и охотники, и мишки на картинах. И бабушка словно на качелях каталась — её голос тоже вроде качался, то тише становился, то громче, а потом и вовсе неслышным делался… А теперь ты большой стал, в первом классе отучился — спать и не надо днём. Хорошо! Во что бы поиграть? Вспоминаешь, что в программе «Время» утром показали репортаж о строительстве какой-то большой дороги. Уйму самосвалов показали, разных скреперов, бульдозеров, грейдеров, катков и экскаваторов. И строителей — плюхали они по грязи и лужам. Вот счастье! Никто не заругает, что по грязи — ведь строители. Скоро поедут машины по новой, широкой дороге, чернющему, только положенному асфальту. Вот бы и тебе дорогу построить, да среди хлябей пожиже. Да чтоб народу вокруг — побольше! Нашего, мастерового, весёлого! Но маленький ты ещё, не умеешь строить. Да и ни скреперов, ни катков у тебя нет. И на стройку тебя не возьмут. А хочется весёлой, бойкой, деятельной строительной жизни вокруг. Что делать?
За беседкой останавливаешься у дощатой песочницы, покрашенной весёленькой салатовой краской. Это заботливые руки отца и дедушки тебе такую песочницу сладили, в тени, под вишней. В песочнице дорогу делать - оно вроде и ничего, да только там у тебя «карьер», вчера ещё начал, не доиграл. Почесываешь в раздумьях затылок, глядишь вокруг, не нужна ли где дорога? Рядом вишня, по стволу её муравьишки бегают, вперёд-назад. Будто и у них дорожное движение. У муравьишек под песочницей — дом, муравейник. Вот и бегают они от муравейника к вишне по своим делам. Малюсенькие совсем — а тащат, словно грузовички, на себе всякие соринки, пыхтят по земляным комочкам. Вот кому дорога точно нужна! Тут уже не беда, что у тебя ни экскаватора, ни бульдозера нет. Ладошку ребром поставил, прижал к земле — и давай комочки все сгребать в сторону — вот и бульдозер! А ковшиком сделал ладошку, зачерпнул песка — самый настоящий экскаватор получается! Ловкая работа! Вот и дорога муравьишкам готова, от самой песочницы до вишни. Не асфальтовая, конечно, зато из сухого песочка, ровная-ровная, без помарочки. Удобно будет муравьишкам. Сейчас пойдёт по дороге движение! Но что это? Не хотят, глупенькие, по ровной дороге песочной — лезут всё больше по земляным отвалам, «бульдозером» сделанным. Ты и пальцами муравьишек направляешь к дороге — а они всё одно — ходу дают по буеракам. Вот и дедушка склонился, глядит на твою работу.
Ты недоумеваешь:
- Вот, построил муравьишкам дорогу, и песочком ровненько отсыпал. А они не хотят по ней…
Дедушка говорит:
- У них своё соображение на этот счёт есть.
Ты удивляешься и показываешь на дорогу:
- Но ведь по ней же удобно, хорошо...
Дедушка улыбается:
- А тебя, братец, отчего ко всяким лужам да ямам тянет? А? Оттого, что у тебя тоже своё соображение. Вот и они. Соображают ведь, смотри, жизнь какая у них трудовая, артельная. А то, может, время пройдёт, они и пообвыкнутся — да начнут по твоей дороге свои грузы таскать.
Ну, у тебя-то ещё вся жизнь впереди, а ждать, когда муравьишки пообвыкнутся — времени нет. Столько ведь всего вокруг интересного!
За песочницей огород начинается. Целый мир — волшебный! Чудесное изумрудное кружево листочков и стебельков, летним днём кажущееся ещё нежнее от тончайшей солнечной позолоты. Дорожка из садовой плитки делит огород пополам, а от неё — влево и вправо расходятся ещё дорожки, образуя ровные грядочки. Вспоминаешь, как ты глядел иной раз из песочницы и представлялись тебе огородные грядки военным парадом стародавних времён. По левую сторону — огородное воинство: в плотном пехотном каре стоит кресс-салат, за ним, рассыпчато, как егеря — петрушка, потом ровные рядки лука, будто строй дюжих лейб-гвардейцев. А у самого забора, вдоль всех грядочек — чеснок в ряд. Повыше он остального воинства и мнится, будто чеснок - это генералы на лошадках. Генералы словно перешёптываются, чуть наклонясь друг к другу пёрышками. А посерёдке, где, наверное, самые главные генералы, а то, может, и фельдмаршал у них - машет над ними, как опахалом, своим крупным листом неистребимый хрен, словно денщик генеральский, смекалистый, такой нигде не пропадёт. И дух над этими грядками крутой, солдатский. Напротив — по правую руку — несколько кустов баклажанов. Их у вас называют по-смешному — «синенькими». Но сейчас они не смешные. Тучные баклажаны в тени листвы кажутся тебе принимающими парад важными министрами в блестящих мундирах. Да и помидоры видятся тебе вельможами, толстыми и красными от жары. За помидорами утончённые графини и княгини с жёлтыми зонтиками от солнца — укроп. А потом и всякий люд попроще: румяные девицы-клубнички да огурчики в своих соломенных шляпках. Затем и малина - словно краснощёкая детвора, рассевшись по веткам, с верхотуры за парадом глядит восторженно.
Сколько скрытых от беглого взора удивительных тайн открывалось в огороде, какая кипучая жизнь представала пред тобой! Случалось тебе хорониться от бабушки в помидорных кустах, казавшихся тебе настоящими джунглями, или в малине засаду готовить на кошку Варьку — и тогда кого только ты не встречал! И толстобрюхие шмели добродушно жужжали над тобой, и осы страшным своим перегудом напоминали об ужасном - о бормашине в «зубодралке», а растревоженное комарьё зудело настырным хором. Неутомимые муравьи по земле сновали во все стороны, таскали всякие соринки, взбирались по стеблям, замирали на листьях, словно со сторожевых застав поглядывали вокруг. На колышке у помидорного куста удивлённо таращился на тебя зелёный, нескладный и смешной богомол. Неторопливо выгибаясь, будто делая упражнения, ползла по стебельку толстушка гусеница. А совсем рядом, как искусный кружевник, плёл свой узор тонконогий паук. Иной раз из земли внезапно появлялся желтотелый проволочник — несколько мгновений юлил средь комочков и столь же внезапно исчезал. Попробуй схватить такого шустряка! На травинке сидела божья коровка — маленькая, яркая, красивая, но совсем непохожая на коровку. Ты легонечко касался её пальцем и она доверчиво перебиралась на него. Тогда ты пел ей песенку, которую ещё дедушка пел в своём детстве:
Божья коровка, полети на небо,
Принеси нам хлеба,
Чёрного, белого,
Только не горелого.
Бывало, распластавшись на земле средь помидорных кустов или в малиннике, наблюдая за неутомимой жизнью букашек вокруг, казался ты себе непостижимо маленьким в этом огромном мире.
Нынче, взрослый, поглядишь на огород — крохотный он совсем. А тогда, в детстве большущим, широченным тебе виделся. И не только таинственной жизнью букашек завлекал тебя огород, но и угощением щедрым. Можно было и малиной посластиться, и огурцом сочным хрупнуть, и духовитый помидор сорвать, и клубничку в рот сунуть прямо с грядки, с земляным похрустом, и кислинку-щавелька пожевать да укропчиком нёбо пощекотать. Эдак вот сделаешь ревизию по грядкам, да не единожды — и сыт карапуз. А бабушка дивится потом — отчего внучек ложкой-то работает без азартного натиска?
И не забыть тебе, конечно, то праздничное, волнительное чувство, когда с дедушкой и отцом весной и осенью принимались вы вскапывать огород. Радостно возвещали о весне птицы, пресный дух шёл от пробуждающейся земли. Осенью дымом от костерков пахло, пощипывало в носу. Раздолье, широта кругом — всё уж убрано. Василий Иванович, сосед, тоже с лопатой в свой огород выходил, и Иван Ефремович. Вроде как артель получалась - хорошо на душе! И нехитрым словом с соседями перекинулся — оттого и работалось радостно, дружно, в охотку. А даже и молчать, просто слушать — тоже уж куда веселей!
- На фронте думал — после войны ни в жизнь лопаты в руки не возьму! - говорил, бывало, Василий Иванович, упёршись двумя руками у груди в черенок. - А возвернулся, на земельку-то гляжу — нет, братец ты мой, это уж другое совсем дело! Это уж самое нашенское! Верно говорю, Андрюха?
- Верно! - отвечал ты весело, хотя и не понимал тогда ничего. Всё вокруг радовало тебя — и огород, и труд, взрослый, мужицкий, вместе с дедушкой, отцом и соседями, и вольный воздух, и раздолье, и всякое услышанное слово.
Лопата у тебя была своя, с узенькой тулейкой. К ней отец приладил и черенок по росту. Черенок сделал поуже, для детской руки удобный. Лезвие лопаты дедушка острил точильным камнем. Да и грядки выделяли тебе с землёю попушистей — малец ведь. Перед тем, как зачинать, отец вручал тебе старый, ржавый, тупой ножик — чтоб с полотна да с наступа счищать налипшую землю, наказывал:
- Не торопись, счищай чаще, оно тогда и легче копается.
Осенью пластовали. Отец учил:
- Копнешь, да и переворачивай, не разбивай. Пускай отдыхает земелька. Какие если и есть личинки вредителей — так их вот так морозцем и прихватит тогда. И отступай поменьше, не жадничай, пупок-то не тужь.
А весной отец наставлял:
- Теперь уж под посадку вскапываем. Отступай поменьше, да комочки разбивай получше. Чтоб пушистая, мягенькая землица была.
Весной отец грабельками проходил все вскопанные грядки, все комочки собирал по уголкам, тут уж тебе было задание — все комочки мельчить-помельчить лопатой, чтобы рассыпчатая земля была. А потом отец снова грабельками проходил, выравнивал земельку так, что любо-дорого глядеть было. Тогда уж дедушка землицу с дорожек метлой сметал — и полный порядок!
Помнишь ты и поныне счастливый, праздничный осенний денёк, пасмурный. Дымы от костров разносились по всей округе, ходили тучи по небу, ветерком прохладным прохватывало, последним золотом и медью ещё радовали деревья, подкидывали для костерков листвы. Картавили где-то высоко вороны. Вы с отцом и дедушкой, последний раз все вместе вскопали огород — стояли, молчали, глядели на свою работу. Дедушка сказал тебе:
- Вот и хорошо, вот и ладно, теперь поотдохнет земелька, за зиму сил наберётся.
А бабушка уж ждала работников на обед: супчиком нутро погреть да крестьянской еды отведать. «Крестьянская еда» — так бабушка называла вареную картошку, порезанную дольками вместе с солёными огурчиками, лучком, да с душистым маслицем. Так и говорила: «Наипервейшая это и есть крестьянская еда — картошечка, лучок да огурчик солёный». С чёрным хлебушком налегал ты на крестьянскую еду — и поныне помнишь — до чего же особенно вкусно было в тот день! Глядел ты через большое бабушкино кухонное окно на осеннее хмурое небо, на вскопанные, чёрные грядки, на деревья. И было тебе так раздольно на сердце, так хорошо, так светло, и отчего-то и грустно слегка, как бывает только осенью. Слушал с удовольствием разговоры, хрустел огурчиком да лучком, и сама таяла во рту картошка с маслицем. С холодного ветра да на тёплой бабушкиной кухне, ел ты «крестьянскую еду» после крестьянской, взрослой работы, рядом были и дедушка, и бабушка, и отец, и мама, жарко и уютно пыхтел газовый котёл...
Всяким вспоминается огород — каким разным ты его помнишь! Осенью, уже убранный, разрытый курами. Вскопанный, с набухшими от зарядивших дождей чёрными грядками, тёмными деревьями, трепещущими на ветру голыми ветвями. Или тихий, с посеребрённой первым инеем землёй. Весной — с дружными и ровненькими рядками тоненьких, изумрудных всходов и будоражащим чувством новой жизни вокруг. Летом — пышно-зелёный, с помидорными кустами в твой рост и казавшимся тогда высоченным малинником. Зимой — покрытый снегом, пустынный. Зимы в твоём детстве ещё со снежком были. Белым-бело в огороде. Утром походишь по снежной целине, позаглядываешь в ямки следов — снег в них с синевой. А вечером, в сизых сумерках, наигравшись на улице в хоккей, весь будто ледышка, снова заглянешь в огород. Походишь со скрипом по сине-лиловому снегу да и плюхнешься на спину прямо посреди огорода. Тишина вокруг. Так тихо бывает, только когда идёт снег. Слышно даже, как мягко шелестят падающие на куртку снежинки. Из труб вьются вверх дымки. Валит снег. Небо низкое. Мнится — протяни руку — и ухватишь его тёмно-серый, нависший полог. Долго смотришь на небо, на кружение тысяч снежинок. Налипают, тают снежинки на ресницах. Плывёт всё вокруг, лучится — и небо, и дымы, и снежный хоровод… В окне бабушкиной кухни загорается жёлтый, тёплый, уютный свет, и в этом свете под окном снег весело искрится золотом и серебром. Красота! Встаёшь, отряхиваешься и радостно, сипло поскрипывая снежком на морозе, бежишь домой — там тепло, хорошо!
Следующим утром выйдешь во двор — а уж оттепель началась, воздух сырой. Снова пойдёшь в огород — позаглядываешь в глубокие свои следы — в них снег у земли зажелтел мокрой кашицей. Не хочется, чтобы таял он — ни в хоккей поиграть, ни с горки на санках не спуститься. И с крыш вот грустно капает так:
- Та-ет, та-ет, та-ет…
Между огородом и бабушкиной половиной, рядом с песочницей, раньше была беседка, увитая виноградом. В ней по теплу любили вы повечерять всей семьёй, а уж в выходные собирались и на завтрак, и на обед. Но особо вспоминаются первые майские погожие дни, с почти летней теплынью. В беседке нежное солнышко, будто условившись с молодыми виноградными листочками, играло мягкими бликами. Скворцы наперебой, разноголосо напевали вам о разных чудесах, какие видели в далёких жарких странах, о синих морях, над которыми летели домой. Громко балакали хозяйственные сороки, и казалось тебе, что расспрашивали они скворцов про чужедалье:
- Ч-ч-чи вкусны там калач-ч-чи? Ч-ч-чи встреч-ч-чалися грач-ч-чи? Ч-ч-чи остались басмач-ч-чи? Бач-ч-чили? Не бач-ч-чили?
Воробушки ошалело носились лёгкими стайками, ловко перепархивали с ветки на ветку, заглядывали в беседку — чем можно поживиться, вдруг перепадёт чего? А воздух... Какой стоял воздух! Вдыхал ты его во всю грудь — и голова кружилась, словно от хмельной настойки: было в нём и медовое благоухание белоснежного цвета дерев, и вольные ароматы молодого разнотравья, и дыхание угретой земли, и едва уловимый на мгновенье запах — тёплого птичьего пера.
Весна пришла, настоящая, раздольная, тёплая, радостная всякому живому сердцу. Вся семья рядом, за столом. Ты слушаешь разговоры. И празднично, светло, радостно на душе! И свет будто праздничный, радостный, и запахи, и пение птиц, и всё вокруг светлое, ясное, праздничное! И мама, и отец, и дедушка, и бабушка, и сестра — родные, любимые — тоже светлые, праздничные, ясные у них лица! Зачинается, расцветает буйно жизнь вокруг, расцветает и твоя!
Часто вспоминается тебе большая и глубокая тарелка. В ней салат, заправленный маслом — огурчики, помидорчики, лучок. А на дне — самая вкусность и есть — помидорная юшка с маслечком! Розовая она от помидорного сока, на весеннем солнышке весело поигрывает янтарём, празднично блестит масляными пятнышками. Мякишем белого «кирпичика» макнёшь в юшку, размякнет он — и готово дело. Поднесёшь мякиш ко рту, да и задержишь — ах, до чего душисто и пряно — помидоркой да маслечком вкусно и остро, аж до приятной щекотки в носу пахнет. Повдыхаешь-повдыхаешь, насладишься — тогда уж и сунешь в рот. Вку-у-у-усно!
Дедушка улыбается:
- Помидоры-то, хоть и тепличные, а духовитые!
И маслечко духовитое — с базара, как говорит бабушка. С Сенного рынка.
Прохладно, сладостно во рту от помидорного сока, и тёплая горчинка от маслечка, и кислинкой чуть ощутимо и приятно пощипывает язык — привкус от солёного огурчика. И поныне ощущаешь тот вкус явственно. Уж и мама, и отец, и бабушка, и сестра старались — сколько всего лакомого готовили, а вот больше всего запомнилась тебе салатная юшка с белым хлебушком в те майские дни. И сколько потом не перемакал хлеба во всяческие салаты, всё одно кажется - нигде больше такой вкусной и не довелось отведать.
Ещё вспоминаются вечера августовские. Уж темно на улице, оконца уютно желтеют светом. На небе звёзд — россыпи, помигивают тебе загадочно. Опускается прохлада после жаркого дня, от огорода веет свежестью, мокрой землёй — отец с дедушкой поливали. Журчит тихонько где-то вода, шуршит по листочкам — наверное, это деда Вася тоже поливает огород. Уже поют свои колыбельные песни сверчки. В беседке горит лампочка, кружатся вокруг, льнут к ней глупые мотыльки. Отец режет громадный полосатый арбуз — слышится спелый, глухой потреск. Аромат стоит пышный, свежий, медовый. Ты двумя руками держишь большую скибку и въедаешься в малиновую, нежно-сочную, сахарную мякоть. Губы, нос, подбородок, щёки едва ли не до ушей — липкие. По рукам течёт арбузный сок, до самых локтей. Руки тоже липкие, сладкие. Вкусно! Звонко, весело, дружно стучат о тарелки, попрыгивают арбузные косточки — вся семья угощается. Закроешь глаза — будто артель счетоводов на счётах споро работает. Нахваливают все арбуз — сладёшенек! Бабушка с хлебом вкушает. Такая у неё, говорит, с детства ещё привычка. Ты тоже пробовал, с хлебушком-то, но не по вкусу пришлось. Бабушка шумно вздыхает. Всё, дескать, наелась. Через минуту в руках у бабушки нож — она на меленькие кусочки неспешно нарезает арбузные корки. Большое это для курочек лакомство, завтра их порадует бабушка утречком. А сейчас они уже спят. Сладко, наверное, спят? Конечно, сладко. Ты налопался арбуза — и теперь клонит ко сну. Набегался за день. Слушаешь неторопливые, тихие разговоры. И так хорошо — под мерный, уютный постук бабушкиного ножа слипаются глаза, будто и они в липком, сладком арбузном соке...
Кажется — давно это было, очень давно. А вот, как тогда — закроешь глаза — и снова всё-всё слышишь в точности. И колыбельные сверчков, и журчание воды, и мерный постук ножа, и разговоры, тёплые, тихие. И тепло тех вечеров — летнее, семейное тепло согревает тебя и поныне.
В беседке ты и читать начинал, дошколёнком ещё. Когда уж запомнил все буквы, отец первый раз посадил тебя читать именно в беседке. И первую книгу помнишь. «Что я видел». Борис Житков написал. Поначалу совсем тебе не понравилось это занятие. Нудное. Пока-а-а по складам прочитаешь строчку — умаешься. А их вон сколько — целую главку прочитать отец велел. Прочитаешь строчку, вторую, третью… И строчки совсем коротенькие, дальше вон какие длинные начинаются. Да за что такое наказание? Вздохнёшь тяжко, и дальше читать принимаешься, по складам, вслух:
- И ме-ня за э-то на-зы…
Деда Вася вон с Иваном Ефремовичем чего-то смеются. О чём они разговаривают? Охота и тебе послушать. О, кошка Варька в малине дрыхнет. Вот, значит, где она спряталась. Ничего, дочитаешь, так нагонишь её, а то — ишь, разлеглась. Так, где остановился-то? Ага, вот, нашёл. И снова водишь пальчиком:
- На-зы-ва-ли, называли, По-че-муч-кой. Ме-ня в-се т-ак…
Вот и сестра, и мама, и папа — все быстро читают. Сразу всё понятно, и слушать их любопытно. А тут — пока слово одно одолеешь… И ведь книга, должно быть, интересная. На картинках — чего только нет. И паровозы, и машины разные, и метро, и пароходы, и звери всякие. Забыв уже про чтение, снова глядишь на чёрно-белые картинки. Тут и про танки, и про парашютистов! Сколько всего тут интересного — и шалаши, и трактора. Вот бы и тебе в таком шалаше пожить! Эх… Ну почему же так медленно читать выходит? Что за мука? Вот бы враз одолеть эту науку, научиться быстро — вот было бы дело!
- Ме-ня в-се т-ак на-зы-ва-ли…
Как закончилась главка, радостно захлопнул книгу и домой — отцу сообщить!
- Ты чего такой развесёлый? А то сидел да вздыхал так тяжко, будто в угол тебя поставили, - спросил отец. - Не понравилось читать тебе?
- Нет, - ответил ты и расплакался неожиданно и для самого себя. - Вот у вас, взрослых, быстро получается, и интересно, а я пока-а-а прочитаю…
- Вот тебе на, - принялся успокаивать тебя отец. - Ты не плачь, а послушай. Я тебе когда первый мяч подарил, ты по нему и ударить толком не мог — а теперь, вон, ничего, голы забиваешь, когда с ребятами в футбол гоняете. Так? Так. А почему? Потому, что дома не одну вазу грохнул — тренировался, мячом стучал. Вот и здесь также. Потренируешься — ещё и лучше нас читать станешь. Скоро сам и увидишь!
Ты, конечно, втайне поревел ещё и не раз от своего чтения. Ну никак не давалось тебе оно. Бывало, слезинки и на страницы, прямо на строчки капали — такая была мука. А потом… уж и не помнишь теперь, как это было потом. То ли отец неволить тебя совсем уж не стал, то ли ещё чего — но отступился. Так ты Бориса Житкова и не дочитал… Вольница опять началась, привычная, без главки в день. Стал ты, как и раньше, в книжках только картинки и рассматривать. А затем, уже первоклашкой, в книге с картинкой интересной, и читать стал понемногу. Потом и вовсе — и «Рассказы о русском флоте» Митяева целиком прочитал, и про пионеров-героев, и над проделками Карлсона хохотал. С замиранием сердца узнавал ты о славе русского воинства из замечательных книг для мальчишек, написанных Сергеем Алексеевым: «Орда. Куликово поле», «Грозный всадник», «Рассказы о Суворове и русских солдатах», «Птица-слава», «Богатырские фамилии». Так и стал читать, на радость маме, отцу и сестре.
Сколько далёких, волнительных, наполненных захватывающими приключениями путешествий начинались в милой, увитой виноградом беседке?! Вот ты по асфальту, со скрежетом выволакиваешь из беседки стол — у него металлические ножки, но столешница легкая, из текстолита. Стол и такие же лавки сделал отец. Он же вкопал и квадратные, железные столбы, окрашенные бордовой краской. На столбах крючки. Как же замечательно придумал отец! Ведь на эти крючки… Ах, какую прекрасную штуковину можно повесить на эти крючки! Гамак! Устроишься в гамаке с книгой: «Рассказы о русском флоте» Митяева или «Водители фрегатов» Чуковского — и вот ты уже далеко. То берёшь на абордаж шведский фрегат «Элефант» при Гангуте, то палишь из пушки по кораблю османского капудан-паши у мыса Калиакрия, то вместе с Крузенштерном и Лисянским совершаешь кругосветное плавание, а то и в поисках капитана Гранта пересекаешь океаны и континенты. Отложишь книгу, закроешь глаза — как самый настоящий ты моряк, после тяжёлой вахты отдыхаешь в гамаке на нижней палубе. Тихонько, по-корабельному поскрипывает он под тобой, покачивается, будто волнуется море. Раскачаешь гамак — вот и буря ревёт, и волны вздымаются, словно горы, и швыряют по сторонам твой корабль, швыряют так, что аж дыхание перехватывает.
Книг у вас всегда было много. Мама и отец любили читать, старались и для вас с сестрой - много было прекрасных детских книг. Есть они и поныне. Тогда, в детстве, библиотека была в вашей с сестрой спаленке. Книжные полки высились под самый потолок — и во всю стену. Бывало, что за иной книгой по-обезьяньи лазил ты наверх по книжным полкам.
И сейчас, сейчас видишь ты родную спаленку своего детства, слышишь тот особый, ни с чем несравнимый, приятный запах множества книг. Книжные полки, две кроватки, разноцветная, полная далёких и таинственных стран политическая карта мира на стене. Секретер с откидным столиком в углу, у окна, с настольной лампой, множеством тетрадок, учебников, альбомов, циркулей, карандашей и славно пахнувших одеколонцем фломастеров. За секретером сестра Наташа уютными зимними вечерами при тёплом свете настольной лампы учила уроки, решала задачи. Потом она перебиралась в свою кровать, поджимала ноги, и читала. Ты же занимал секретер - рисовал в своих альбомчиках и тетрадках «тринадцатые» автобусы, сражения, парусники и гигантские стройки.
- А что ты читаешь? - иногда интересовался ты.
- Тургенева, - отвечала Наташа.
- А я знаю Тургенева, - важничал ты. - Это такая улица в городе есть.
Иногда ты разглядывал Наташины учебники. Некоторые тебе не нравились. Картинки в них были совсем непонятные — какие-то «графики» и «фигуры». А вот учебники по истории, географии — другое дело. Рассматривал ты в них гравюры стародавних сражений, карты военных действий, дворцы и лица людей, давно живших, и оттого казавшихся загадочными. Любил смотреть ты и на фотографии полей, лесов, рек, далёких пустынь, джунглей и ледяных скал.
Уютная спаленка... Сколько прекрасных, радостных, наполненных новыми ощущениями и открытиями дней начинались в вашей милой спаленке. Каждое утро из кухни доносились позывные радио — переливчато звучали «Подмосковные вечера», затем следовал сигнал точного времени, диктор добрым и спокойным голосом называл московское время и слышались позывные песни «Родина слышит, Родина знает». И уже через минуту отец непременно громко размешивал ложечкой сахар в чашке с чаем — будто радостно и звучно трезвонил новому благому дню. Ты открывал глаза — сколько всего ожидало тебя! Прыгал на подоконник и глядел в окно — что там во дворе, на улице, в мире?! Весна и лето лились в окошко солнечным, ласковым светом, шумели звонкими птичьими песнями, задорным щенячьим лаем. Осень барабанила по стеклу дождевыми каплями, шуршала на крыше, журчала водой в переполнившейся за ночь кадушке, поставленной под слив водосточного желоба. С глухим ширканьем большой деревянной лопаты приходила зима. Услышав этот звук, ты, будто ужаленный, нёсся к окну и забирался на подоконник, открывал форточку, протягивал ручонку. Снег! Снег!
На улице ещё темно — а всё такое белое, чистое, радостное, праздничное! Всё-всё новое! Забор и почтовый ящик — под толстыми снеговыми шапками. И ветви дерев — тоже облеплены пушистыми снеговыми шапками. Отец чистит снег у крыльца, и шапка и куртка на нём будто тоже из снега — так валит! Отец грозит тебе пальцем и улыбается:
- Закрой форточку! Простудишься ведь!
Голос его кажется глухим каким-то, необычным, но и он радостный, праздничный. Ты смотришь на уличный фонарь — и в жёлтом свете его рябит от крупных снежных хлопьев. Бегаешь от одного окна к другому — и из кухни, и из спаленки, и из родительской комнаты глядишь на снег, на дивный двор, ставший другим. Ликующе колотится твоё сердце в предвкушении нового, огромного, радостного дня! Будет и хоккей, и санки, и снежки, и крепость снежная! И чай с морозца на тёплой бабушкиной кухне! И нарядная новогодняя ёлка празднично подмигивает тебе разноцветной гирляндой, блестят торжественно шары, струится серебрецом дождик, а наверху рубиново горит звезда — скоро Новый год! И запах у ёлки особый - волшебный, весёлый. И мандаринками пахнет, а на кухне — утренней яичницей. Хорошо! Только бы снег не заканчивался! Пусть сыпет снежок, ещё и ещё, пусть наметёт большущие, прекрасные сугробы!
Сколько их было — таких разных, огромных, волшебных дней. Если и случались слёзы , синяки или шишки — быстро они забывались в той удивительной поре жизни. Дни заканчивались, но их было не жаль — ведь впереди были новые, добрые, счастливые. Их было не жаль, но и расставаться с ними не хотелось. Не хотелось ложиться спать. Конечно, после детского садика, великого множества игр, впечатлений, вопросов и ответов, иной раз под вечер слипались глаза. И когда ты «готовился в космонавты» - до одури накрутился на диске здоровья и, не владея собой, плюхнулся на родительский диван, и тебя потом весь вечер мутило — даже тогда ты не хотел засыпать, словно боялся забыть что-то из уходящего дня или пропустить новое, радостное и значительное.
Ты лежал под ватным своим, тёплым одеяльцем. Рядом, примостившись на краешке кровати, мама читала тебе сказки. Ты закрывал глазки и погружался в чудесный, сказочный мир. Дыхание твоё становилось ровным, тихим. Мама потихонечку пыталась встать с кровати, а ты ошалело открывал глаза и говорил:
- Я не сплю!
Мама смеялась, снова устраивалась рядом и продолжала читать вслух.
Помнишь, как однажды вечером ты попросил маму рассказать свою сказку, про маму «Волгу», папу КАМАЗа, и их сына — непослушного «Жигулёнка». Мама, уставшая на работе, приготовившая ужин, постиравшая твои перепачканные в садике вещи и переделавшая ещё уйму всяких домашних дел, прилегла рядом и повела рассказ о приключениях маленького, непослушного «Жигулёнка». И вот дело дошло до кульминации — неслуха «Жигулёнка» на большой трассе, по которой могли ездить только взрослые машины, остановил строгий инспектор ГАИ. Такого развития сюжета в ваших сказках о семье «Жигулёнка» никогда ещё не было и ты весь аж замер в ожидании. Казалось, что и дышать перестал от волнения за судьбу озорника. Но мама вдруг замолчала… И вместо продолжения сказки послышалось тихое мамино сопение.
- Мам, мам, а дальше? - ты теребил маму за руку. - Мам, а дальше что?
- Что? - откликнулась мама. Её мутный взгляд растерянно поблуждал по комнате и остановился на тебе.
- А дальше? Ну, в сказке.
Мама закрыла глаза и произнесла едва слышно:
- В сказке…
Мама глубоко вздохнула, несколько раз сладко почмокала губами и тягуче, тихо забормотала:
- А велосипедик тогда и говорит: «Здравствуй, мама Света...»
- Какой велосипедик? - приподнимаясь от подушки, перебил ты маму удивлённым и разочарованным голосом. Ещё бы — ведь так увлекательно всё начиналось, инспектор ГАИ... и на тебе — какой-то велосипедик.
В своей кровати, с каждой секундой всё громче, хохотала сестра Наташа. Мама открыла глаза, непонимающе смотрела то на твоё изумлённое лицо, то на заразительно хохотавшую Наташу. Она не сразу и смогла поведать маме, отчего так смеётся. А когда рассказала — вы уже втроём заливались до слёз. Из ванной появился отец, глядел на вас - а вы всё покатывались и слова вымолвить не могли — так хохотали, до боли в животах. Отец улыбался, выжидал не одну минуту. Как рассказали отцу историю — тогда уж снова, вчетвером смеялись до слёз. Так нахохотались, что ты и про инспектора ГАИ забыл. Мнится тебе, что в тот вечер каждый из вас засыпал со счастливой улыбкой на лице. И даже не мнится — ты знаешь это точно.
А сколько радости было, когда на праздники приходили к вам гости. За день, а то и за два, и на бабушкиной кухне, и на вашей - по вечерам дым стоял коромыслом! В помощь приходила бабушка Галя, тётя Нина — мамина подруга. На вашей маленькой, уютной кухоньке было и не повернуться. Все при деле! И начиналась круговерть шипящих сковород и булькающих кастрюль на плите, от духовки жаром веяло — пахучим, вкусным. На столе раскатывали тесто и тут же что-то нарезали, по-пулемётному проворно стучали ножами. Обычно в такие моменты из кухни тебя удаляли — чтоб не мешался. Но иной раз, когда случалась нехватка рук, призывали на помощь:
- Ну-ка, сила мужицкая нужна, помогай!
Тебя ждала прикрученная к столу серо-блескучая, чугунная мясорубка. Бывало — справлялся и одной рукой. В такие моменты казался ты себе силачом. А случалось, что и едва выходило — тогда двумя руками брался за ручку мясорубки и, покраснев от натуги, с усилием проворачивал её. Иногда даже стол ходил ходуном от твоего усердия. Рядышком нарезали репчатый лук, иной раз кидали и тебе в мясорубку — ох, и щипал он глаза, до слёз щипал. Слёзы лились, а ты с ожесточением проворачивал ручку — сейчас, дескать, отомщу, перемелю злодея!
Ты засыпал в своей кровати, а из кухни до глубокой ночи доносились приятные звуки - весело там звенела посуда, дружно стучали ножи. Ты засыпал и думал о том, что завтра придут гости. Весело-то будет! Скорее бы уже завтра, скорее бы утро…
А утром носили столы-тумбы, лавки, табуретки, стулья. Если в тёплую погоду — так во дворе составляли, длинным рядком, стелили скатерти - будто белоснежный поезд получался. Ежели ненастная или холодная пора стояла, тогда накрывали в вашей иль дедушкиной половине — а, бывало, что и в обеих сразу. Когда случалась нехватка — стулья, табуретки, столы-тумбы носили и от соседей. Помнишь, как на каждом шаге весело и глухо бомкали тяжёлые, раскладные столы-тумбы, точно и они радовались. Надоело стоять без дела по углам, будто наказанные они, вот и радовались тоже — ждала их праздничная, настоящая работа! Бывало, что и мебель — диваны и кресла - сносили в другие комнаты, а случалось, что и вовсе во времянку! Вроде целый переезд — такой ералаш творился! И столы, соединённые друг с другом, накрывали в двух комнатах. Всякими буквами — и «П», и «Г», и даже «Ш» составляли столы. И праздники отмечали, и дни рождения, и свадьба даже была.
С утра везде такая кутерьма! Бегали все, кто куда: кто опять в магазин, кто за картошкой в кладовую, кто с миской зачем-то во времянку. Почему-то вдруг исчезал петух, который больно клевал тебя. Ты бежал к отцу, а он только отмахивался: «Потом!» и гремел железной дверцей — из подвала доставал домашние закатки в трёхлитровых баллонах: огурцы, помидоры, компоты разные. Окно кухни в вашей половине и не закрывалось. Только и слышно было оттуда:
- Принеси от бабушки большую кастрюлю. Какую? Она знает какую.
- С грядки собери петрушки пучок, поприглядней только!
Потихоньку собирались гости. Женщины помогали накрывать на столы, мужики же держались в сторонке, курили часто, покашливали сдержанно, держались задумчиво за подбородки, говорили тихонечко. Начинали с погоды, затем уж о всяком. Появлялся дядя Боря, папин товарищ — и тут уж все собирались вокруг него. Дядя Боря — крупный мужчина, больше него только дядя Сюня. Столовые приборы в его огромных, рабочих руках казались совсем уж малюсенькими — будто из девчачьих игрушечных наборчиков. Голос у дяди Бори зычный, громкий. Брюки он носил по старой моде, широкие, как в пятидесятые, с ремнём высоко на животе. Любую, даже самую обычную историю дядя Боря умел рассказать так, что все вокруг — мужики и женщины, старики и дети - хохотали до слёз. А уж всяких смешных историй он знал несметное количество. На самый простой вопрос: «Боря, как дела?» – отвечал так, что мужики вокруг оглашали двор приступами хохота. И тогда все уже понимали — пришёл дядя Боря. И детвора спешила к дяде Боре — на радость вам он неизменно приносил с собой новые головоломки, сделанные из подшипников и разных деталей. Над иной головоломкой и взрослые мужики собирали на перекурах целый шумный консилиум. Руки у дяди Бори были золотые, а слесарной смекалкой своей, отец говорил, удивлял многоопытных инженеров. Казённую водку дядя Боря никогда не жаловал, всегда приходил с продуктом собственной фабрикации, огромной бутылкой с заточенным в ней большим корнем женьшеня. Пил он много, но, казалось, никогда не пьянел. Ты всегда радовался, когда дядя Боря приходил к вам.
Все рассаживались за столы. Мужики, табашники - так, чтоб сподручней было выбираться покурить. Звенели азартно хрустальные рюмки, бокалы, веселый шёл перестук вилок, ножей и тарелок. Оживлялся разговор. Ты любил сидеть и слушать, всё было интересно — о чём говорят? Женщины — о житье-бытье своём, о детях, внуках. И про смешных каких-то рассказывали — про шуринов да золовок. А то и страшноватое слово звучало - «деверь». Который «водкой баловался». «Деверь» - на «зверь» похоже. И ты думал: «Надо у дедушки спросить. Что за деверь такой, который водкой балуется? Вы с дедушкой, наверное этого деверя и видели как-то — его, пьяного, помятого, милиционеры с конечной остановки трамвая под руки вели, а он страшным голосом песню горланил!».
Мужики, конечно, больше о политике рассуждали, о футболе, о разных фрезах и шпинделях. Ещё дядя Игорь рассказывал, как у них в цеху кому-то на неделе оттяпало два пальца. Если бы женщины говорили о шпинделях — тебя, наверное, тоже рассмешило бы это слово. Но его произносили мужики — и ты понимал — они говорят о чём-то рабочем, серьёзном, суровом. «Вот так оттяпает два пальца этим шпинделем — и будешь деверем кричать» - со страхом думал ты и с ещё большим уважением глядел на мужиков.
Разговоры делались громче. Закрывал на секунду глаза и казалось, будто ты на Сенном рынке — шумно, раздольно, бойко, весело. Хохотали дружно — дядя Боря рассказывал очередную историю. Во дворе, на перекуре, раскрасневшиеся мужики с великим азартом продолжали начатый за столом спор о каком-то «дифференциале» - их слышно было и в доме. Спорщики чертили руками что-то в воздухе, что-то куражливо раскручивали и закручивали воображаемыми инструментами. Бушевали там страсти, но без злобы, без единого бранного слова — такого на ваших застольях не водилось. Смешно было наблюдать за ними. И жаль, что не поспеть тебе и спорщиков послушать, и дядю Борю.
А потом, в самом разгаре, когда за окнами уж темнело, дядя Боря громко говорил:
- Эх, хорошо…
Все ждали от него новой смешной истории, а он несколько мгновений молчал, глядел куда-то далеко-далеко, в одному ему ведомые края и, вдруг, закрывая глаза, запевал. Песню тут же подхватывали женщины, а мужики выдерживали паузу, но тоже вступали — поначалу тихо, вроде смущённо как-то.
Песни пели старинные, не магнитофонные. И удалые, с дядиным Бориным подсвистом и чьим-то залихватским эхканьем, и протяжные, грустные, долгие. Ты глазел по сторонам — и необычно было, и весело, и боязно отчего-то. Мужики подпирали головы натруженными, большими кулаками, глядели вниз. Женщины с тревогой и нежностью перебирали тихонечко скатерть или салфетки, закрывали влажно блестевшие глаза или смотрели невидяще, куда-то поверх друг друга. В такие мгновения казалось, будто не за столом они были. Где были они, о чем думали тогда? Вспоминали своё детство, свою молодость? Поминали дедушек и бабушек, отцов и матерей своих? Или устремлялись вглубь старозаветных времён, ведомые острым чувством родства, исконного, сердечного слова, соединившего неизбывные юдоли и радости, каким жили и они, и многими веками предки их? А, может быть, вместе с тем, пытались углядеть — какая жизнь ожидает их детей и внуков, в каком мире им жить доведётся? Разноголосо пели, но с тою слитною душевною силою, какая веками собиралась и крепла на неоглядных русских землях. Ты тогда, конечно, не мог понять и объяснить этого — но чувствовал что-то... Что-то такое, отчего и тебе хотелось и плакать, и смеяться, что-то такое, отчего мурашки ходили по твоему телу будоражащими, горячими волнами.
Расходились уж поздними вечерами. Кто и с песнями, а кто умудрялся и не в своей обуви уйти — разное, весёлое было. Дышали на тебя вином, целовали, тискали, и вверх иной раз подкидывали радостно, жали руки, наказы давали — родителей слушаться, учиться прилежно.
Ты рос, менялся, и улицы, люди, страна, жизнь вокруг — всё менялось. И встречи за столами всё чаще и чаще становились горькими тризнами. Многих, многих уж нет нынче на этой земле. Но любимые лица, голоса их, такие разные — ласковые, радостные, задумчивые, хмельные — живут в тебе. Пусть и нечасто, но оседает пелена суетливых будней, и видишь ты родные лица, слышишь их голоса — вместе с ними возвращаются отрадные, ясные дни детства и чувствуешь - лицо твоё озаряется другой, особенной улыбкой.
Вот и сейчас глядишь ты на отчий дом и улыбаешься. Сквозь слёзы. И горестные, и счастливые это слёзы — многих и многого уж нет, но ведь было… Было… Какое же счастье, великое счастье в том, что это всё было! И есть! Есть! Хоть и растерялось немало — но осталось в тебе многое, такое одновременно и близкое и далёкое, светлое, дорогое. Осталось — и не выветрилось ни брыкливою, безрассудною молодостью, ни суетой житейской. Осталось — и живет, внутри, в душе.
Спасибо тебе, отчий дом! Дедушка, бабушка, отец, мама, сестра — спасибо и поклон земной вам! И всем, всем, кто бывал в вашем доме и ныне бывает — спасибо! За всё то, что жизнью своей рождали в тебе. За всё то, что и в ненастные мгновения согревает сердце и освещает твой путь и поныне. За удивительные, прекрасные, светлые времена счастливого детства...
Андрей Пиценко