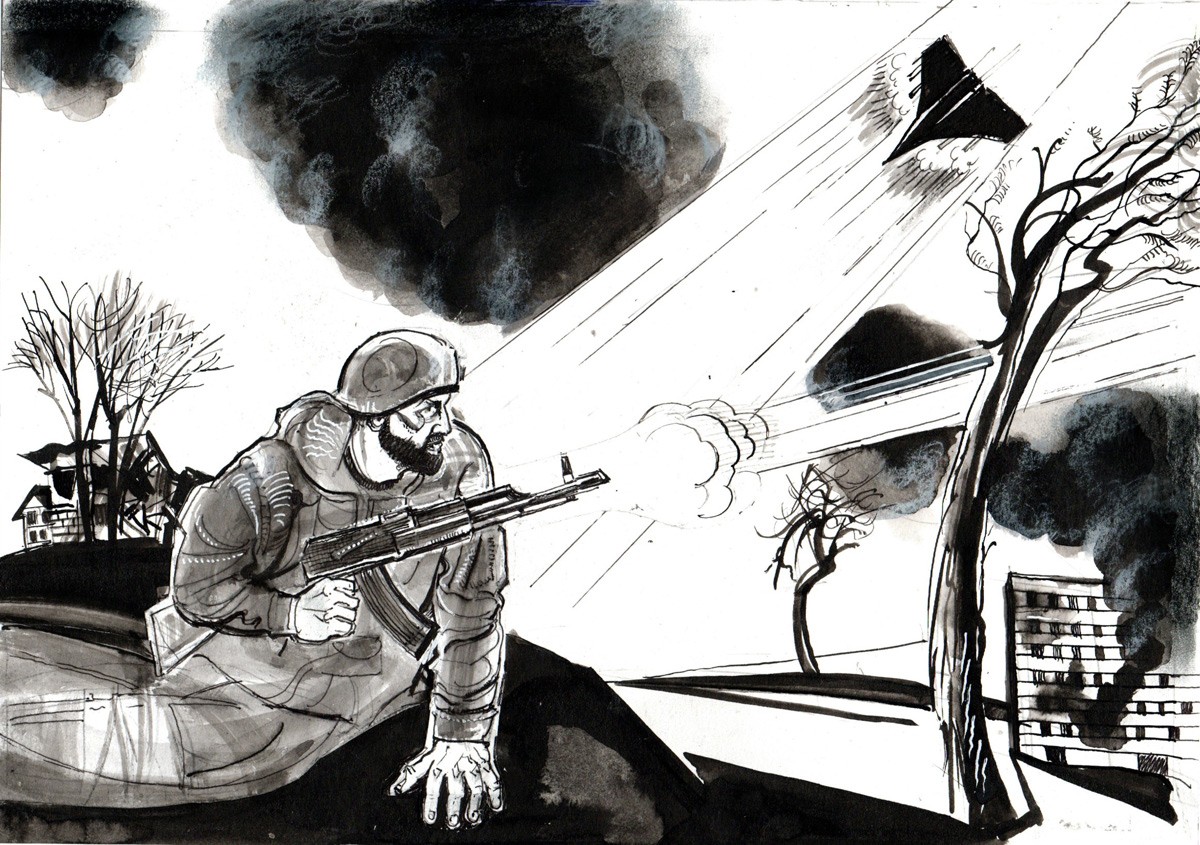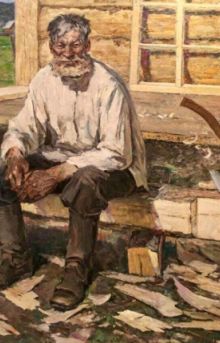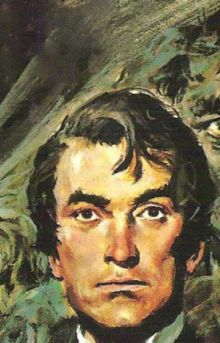В апреле этого года поэту Денису Новикову, чье творчество некоторое время назад запоздало признавалось ныне одним из самых значительных явлений русской поэзии конца 20-го века, а теперь, похоже, совершенно забыто (правда, литературными критиками, а не читателями), исполнилось бы 50 лет. Посмертная, да и, пожалуй, предсмертная судьба Дениса – это очень наглядный пример того, как заманивает, льстит, а потом обманывает человека пресловутая Глория Мунди – и как быстро она проходит. Вначале после ухода его вспоминали довольно часто, затем – все реже, теперь – не вспоминают совсем. А ведь его значение для русской поэзии с годами не уменьшалось, наоборот – увеличивалось. Но дело в том, что до поэзии как таковой сейчас нет дела даже пишущим – и это Денис, похоже, понял раньше других. Это чувство он неоднократно выражал в своей поэзии, об этом говорил в интервью.
Но круглая, тем более юбилейная дата – это всегда повод вспомнить человека, кем бы он ни был. Я не принадлежу к числу самых рьяных поклонников поэзии Дениса, и, тем более – самых близких его друзей. Поэтому без особой надежды ждал весь этот год, пока в печати появиться о нем хотя бы слово. Этого не произошло, и поэтому я решил опубликовать давние свои размышления, прозвучавшие лет пять или даже больше на радио, дополнив их кое-какими новыми соображениями.
Добавлю, что и ранняя и неожиданная, как считается, смерть (Новиков скончался на Святой Земле накануне нового, 2005 года в классическом для русского поэта возрасте 37 лет), и еще более неожиданный уход из литературы в начале тысячелетия (сам он признавался, что после 2000 г. не написал ни одного стихотворения) порождает множество предположений и догадок со стороны причастных и не причастных лиц; именно их я и попробую в той или иной мере разрешить по ходу предлагаемого эссе, которое тем самым обретет черты некоего детективного расследования. А вот что касается творчества, то, в силу причин, которые я укажу далее, оно будет приводиться лишь на подмогу, постольку-поскольку; тех же, которым такой подход покажется недостаточным, отправляю к книге о Новикове моего друга и соратника, священника и поэта Константина Кравцова, главы которой можно найти в Интернете; меня же больше будут интересовать некоторые аспекты взаимодействия в творческом человеке собственно поэтического и божественного, выявлением которых на примере Новикова я сейчас и займусь.
Сразу обозначу направления, которыми будут определяться мои расследования: я буду рассматривать Новикова как поэта, отчетливо осознавшего, что он и его дар являются вместилищем неких неведомых ему самому сил, но при этом не предпринявшего усилий, чтобы эти силы внутри себя определить и разграничить, а тем более правильно распределить и направить, а не воспринимать их как некое хотя и темное, но, несомненно, при любых вариантах развития созидательное начало – при полном игнорировании остальных слагаемых. Например, разрушительных, столь часто определяющих бытовое существование поэта.
В ранних стихах практически любой частный случай довольно таки бурной жизни поэта становился одновременно фактом и жизни, и поэзии, одновременно проецируясь с настоящего в будущее (прошлое при этом как бы отсутствовало, вернее, присутствовало как некий отрезок, предваряющий настоящее). В зрелый период, и, в особенности, в конце, событийный житейский отрезок становится всего лишь фактом поэзии, но не жизни, а главной темой становится настоящее, мгновенно становящееся прошлым, а то и ностальгия по последнему; о попытках проекции того и другого в будущее теперь нечего и гадать.
Новиков, как мне кажется, страдал распространеннейшим (и не только среди поэтов и даже не только среди ложно или маловерующих) заблуждением: он думал, что само автоматически, так сказать, полученное от Бога звание поэта все, что бы не сделал тот в жизни, оправдывает (так же автоматически оправдывает все его заблуждения) – и в жизни, и после смерти, и даже больше – оправдывая его как поэта, одновременно оправдывает и как человека. Об этом – в его довольно ранних стихах 1990 г.:
Как мы жили, подумать, и как погодя
С наступлением времени двигать назад,
Мы, плечами от стужи земной поводя,
Воротимся в тобой навещаемый ад.
Ну, а ежели так посидеть довелось,
Если я раздаю и вино и ножи –
Я гортанное слово скажу на авось,
Что-то между прости меня и накажи,
Что-то между прости нас и дай нам ремня.
Только слово, которого нет на земле,
И вот эту любовь, и вот ту, и меня,
И зачатых в любви, и живущих во зле
Оправдает последнее слово. К суду
Обращаются частные лица Твои,
По колено в тобой сотворенном аду
И по горло в твоей сотворенной любви.
Известно также его, нельзя сказать, чтобы отличающееся глубиной, а тем более оригинальностью, устное высказывание: думаю, за стишки там (имеется ввиду, наверху) проститься все (или многое). Может быть, это и так, но мне лично видится в этом некая подмена понятий, вследствие чего религиозное чувство иногда (и это не самый худший вариант) переплетается с ним, а большей частью поэтическое накладывается на религиозное, а то и замещает его – а это, что ни говори, а это разные способы постижения реальности. Поэт же, пускай даже остро чувствующий и жизнь и смерть в пределах плотского мудрования, не в силах возвести на высоту первую (он может лишь насквозь пройти через нее, облагораживая не слишком существенные ее явления и детали), равно как и отменить вторую. Вот почему оправдание, как правило, не происходит ни по одной, ни по другой линии. Готов допустить, правда, что есть и исключения, но они слишком редки. Об этих и о связанных с этим моментах у нас был очень короткий разговор во время последней нашей встречи – кажется, во второй половине или даже ближе к концу девяностых годов – во всяком случае, после его возвращения из Англии, где он прожил несколько лет и где, конечно же, не прижился - в отличие от общего нашего друга Филиппа Николаева, осевшего в Америке и без особого труда ставшего там крупным англоязычным поэтом и издателем. Ничего экстраодинарного в этом, по-моему, нет: было бы, как говориться, желание. У Дениса такого желания не было.
Возвращаюсь к нашему с ним разговору. Боюсь, что мысли свои я выражал не очень внятно, но помню его реакцию на сказанную мною фразу, что есть моменты, когда даже в жизни поэта поэзия, все-таки, может быть отодвинута в сторону, ибо она временами может быть и не самым главным ее составляющим – это было резкое отторжение. Поэт от рождения, поэт, если можно так выразиться, уже по самим своим психофизическим данным, он, в отличие от меня, с отрочества метавшегося между поэзией и религией, чтобы, спустя десяток лет однозначно выбравшего последнюю, без поэзии не мыслил свою жизнь. И в трудные девяностые годы ее исчезновение напрямую связывал с исчезновением России. Но прошло всего лишь десять лет, и поэзию он начисто вычеркнет из своей жизни.
Почему это произошло? Отчасти, я надеюсь, по отмеченным выше причинам. А отчасти здесь, думается, сыграл свою роль чувственно-плотский подход и к миру, и к поэзии, всегда характерный для Новикова. Кажется, когда пришла пора веры, этот метод чувственно-плотского восприятия ему казалось возможным применить и к постижению Бога, что чувствуется, как мне кажется, в процитированном только что стихотворении.
Но, не смотря ни на какой талант (а он у Новикова действительно поразительный), никому это невозможно. Если это осознание в последние годы пришло к Денису (намеки на это есть в его последней книге Самопал), то этот факт может дать некоторое понимание, почему он оставил поэзию. Представим себе фиксирующего собственный душевный распад Моцарта (а Денис воплощал в себе именно моцартианский тип) – это и будет Новиков периода Самопала.
Стоит отметить здесь и, так сказать, природную стихийность, отличающую характер поэзии Новикова. Интересно в связи с этим, что человечество как таковое носит в этих стихах функции явно второстепенные относительно других элементов, ее явно определяющих: случайностей, призвания, долга, воспроизводимых (воспринимаемых) в пределах собственной личности.
Но при всем при этом, в отличие от Бродского, написавшего предисловие к одной из его книг и часто спекулирующим на религиозных темах, о которых он не имеет достаточного представления, Новиков кажется мне поэтом все ж таки действительно религиозным. У него наличествуют все те духовные координаты, отсутствие которых я неоднократно инкриминировал Бродскому, только одновременно эти координаты отмечены присутствием не настоящего, но придумываемого для каких-то своих поэтических целей, Бога, Который для него не есть, если можно так выразиться, Богом абсолютным.
Удивительно ли, что в стихотворении, которое я сейчас приведу, образ Бога в сознании поэта накладывается на образ искусителя, их свойства смешиваются до того, что уже не отличишь одного от другого:
Заклинаю все громче,
Не стесняюсь, при всех,
Отпусти меня, Отче,
Ибо я – это грех.
Различаю все четче
Серебрящийся смех,
Не смеши меня, Отче,
Не вводи меня в грех.
Зато все функции земного бога (а какой же он может быть у привязанного к земному поэта) отданы ему самому; он, таким образом, становится своеобразным заместителем Христа, поэтическим демиургом:
Сам себе жертвенник, сам себе жрец,
Перлами речи родной
Завороженный ныряльщик и жнец
Плевел, посеянных мной, -
Я воскурю, воскорю фимиам,
Я принесу-вознесу
Жертву-хвалу, как валам, временам
В море, как соснам в лесу.
Залпы утиных и прочих охот
Не повредят соловью.
Сам себе поп, сумасшедший приход
Времени благословлю.
Здесь наблюдается довольно существенное смещение от слов Пушкина о том, что поэт служит лишь самому себе (есть у Новикова даже стихи на эту тему, снабженные Пушкинским эпиграфом, которые я приведу немного ниже), а также перекличкой с еще одними стихами (кстати, весьма ироническими), вложенными, правда, у Пушкина в уста книготорговца: «Поэт казнит, поэт венчает», и т.д. – надеюсь, многие их помнят.
Все это обращается у не вооруженного пушкинской остраненностью Новикова религиозной пародией, с оттенками едва ли не кощунственными. Цитирую обещанное стихотворение под названием Поэту. Эпиграф, как я уже сказал, пушкинский: Ты царь, живи один. Далее – новиковский текст:
Словарь, где слово от словца
Другим отделено,
Но одиночество творца
Сливается в одно…
Творец наш страшно одинок,
О нем подумай, царь,
Когда вотще звонит звонок
И не подходит тварь.
Все это привело Дениса к тому, чему должно было бы привести. Читая стихи из последней его книги Самопал, трудно отмахнуться от впечатления, что автору уже нечего сказать, вернее, не то, чтобы нечего, но стиху, вернее, языковой стихии, всегда игравшей столь важную, если не основополагающую роль у Новикова уже не под силу отобразить сам предмет речи по причине глубочайшего экзистенциального равнодушия к этому предмету со стороны автора; говоря проще – ему не просто нечего сказать, но не о чем говорить.
Поначалу Новиков был свыше меры укоренен в прозаическую реальность, из которой не без успеха на первых порах извлекал реальность поэтическую - и она мнилась ему полноценным заменителем первой. Затем, очевидно, все больше сказывались попытки свести их воедино. В конечном же счете дело кончилось отрывом и от той, и от другой.
Почему? Потому, что не оказалось того, что связывает между собой две эти реальности. Связывает их Бог, и невнимание или недооценка этой связки, или ее забвение, может вполне привести к неотвратимым последствиям. Чтобы этого не случилось, нужна христианская вера.
Здесь я сошлюсь на очень точно определяющее случай Новикова наблюдение Тамары Жирмундской, позаимствованное из ее статьи «Мотивы богоборчества и способы их преодоления у поэтов русского зарубежья». Цитирую: «Если поэт не впитал веру с молоком матери, если, не будучи тверд духом, разменял ее на разные “но” (“я верую, но...”), его подстерегают всевозможные чудища духовных соблазнов. У каждого поэта свои соблазны, однако наличествуют они обязательно: ведь темные духи любят податливую, рафинированную материю, предпочитая ее непроницаемой для них, как выразился священник Александр Ельчанинов, телесности...»
Прошу запомнить последнее слово этого фрагмента, поскольку оно еще не раз будет возникать в моих дальнейших размышлениях.
Случай Новикова - это, на мой взгляд, наглядный пример того, сколь тяжело приближение к этой вере или, скорей даже, соприкосновения с ней сознания, совершенно для этой цели не подготовленного.
Впечатление такое, будто бы скудеющие понятия относительно поэтически осмысляемой реальности вступают в противоречия с обретающей все большей вес религиозностью, с которой поэт, вопреки очевидной нужности в первую очередь для него самого, не хочет, тем не менее, вступать в контакт, или, по меньшей мере, этого контакта избегает; - или же, не в силах за ней поспевать, неизбежно отстает – пока совсем от нее не отрывается.
Эту мысль уместнее всего развить на примере Самопала – последней и лучшей книги Дениса Новикова. Большинство из пишущих о Новикове периода Самопала говорят о пересечении проявившейся в этой книге новой поэтики с поэтикой позднего Георгия Иванова; некоторые (меньшинство) – о сходстве с Ходасевичем. Но я бы обратил внимание на сознательное впущение (это слово мне кажется наиболее точным для передачи того, что я хочу сказать) приемов и самого мироощущения Юрия Одарченко, высоко ценимого Новиковым (знаю об этом, опять-таки, из его собственных слов). А вот кто такой Юрий Одарченко – до сих пор знают немногие, поэтому даю короткую справку: это русский поэт второго поколения первой волны эмиграции, автор одной из самых страшных поэтических книг под названием Денек, отмеченной мистической рефлексией явно демонического характера, которая определяет не только интонацию, но уже саму точку зрения (вернее, преломление в этой точке описываемого происходящего). Считаю уместным процитировать стихотворное, так сказать, кредо Одарченко, являющееся одновременно и краткой попыткой автореферата собственной поэтики:
Я расставлю слова
В наилучшем и строгом порядке,
Это будут слова,
От которых бегут без оглядки.
Сходный принцип определяет многое и в Самопале; мало того, что здесь заметно заимствуется интонация и мироощущение Одарченко, в свою книгу Новиков прямо переселяет некоторых персонажей Денька, например, клоунов Бима и Бома, совершенно в духе Одарченко спорящих, кто из них может назваться Божьим избранником (как, кстати, и третий присутствующий при споре и неназванный по имени персонаж; да и надо ли его называть? Да и сам Господь здесь наделен чертами в духе Одарченко). И постановка вопроса здесь чисто одарченковская:
Не бойся ничего, ты Господом любим –
Слова обращены к избраннику, но кто он?
Об этом без конца и спорят Бом и Бим
И третий их партнер, по внешности не клоун.
Не думай о плохом, ты Господом ведом,
Но кто избранник, кто? Совсем забыв о третьем,
Кричит полцирка – Бим! Кричит полцирка – Бом!
Но здесь решать не им, не этим глупым детям.
Между тем решать именно каждому из нас. Нам, например, с отцом Константином (взгляды которого на поэзию, между прочим, более близки со взглядами Дениса, нежели моими) удалось сохранить себя благодаря довольно ранней ускоренности в Православной вере. А Денису, несмотря на редкое качество – врожденную религиозность, о чем он говорит в одном из интервью - не удалось. И, на мой взгляд, не в последнюю очередь из-за того, что поэтический взгляд то и дело подменял взгляд религиозный.
Вот еще два стихотворения, где, так сказать, Одарченко выползает на поверхность сквозь оболочки Ходасевича и Иванова:
Каждое утро Господне
Кто-то стирает с доски,
Кто-то до блеска сегодня
Мне прочищает мозги,
Чтоб не осталось пылинки
Там от вчерашнего дня,
Буковки или картинки…
Кто-то ревнует меня.
СЧИТАЛОЧКА
На исходе двадцатого века
Вижу зверя в мужчине любом
Вижу в женщине нечеловека
Словно Босха листаю альбом
Беспощадная оптика психа
Эти глазоньки полны льда
Ты боялась примерить трусиха
Но отныне ты то-же боль-на
Это уж не говоря о таком:
Я воспел бы укладчицы волосок,
Волос укладчицы № 3,
Что в коробке к сладкому так присох,
Что не сразу весь его оторви.
Шоколад прилип к нему, мармелад.
Брошу его в пепельницу, сожгу.
Отправляйся, грязный очесок, в ад,
Там ищи хозяйки своей башку.
Эта медитация, имея в своей основе столь ничтожный повод со столь далеко заводящим выводом, равно как и возведение его в статус поэзии, заставляет читателя задуматься в смысле обозначенного ранее одарченковского направления.
В связи с этим у меня возникает еще несколько вопросов, главный из которых такой: что представляло бы собой дальнейшее творчество Новикова и какую бы эволюцию претерпела человеческая ( не поэтическая, именно человеческая) ипостась автора, развивай он свою поэзию в этом направлении далее (а среди написанных после Самопала стихов есть немало сходных с только что приводимыми). То, насколько оно опасно и как далеко может завести, свидетельствует движение в этом направлении самого Одарченко, который, прожив вторую половину своей жизни под знаком все более углубляющейся депрессии, покончил с собой в возрасте сорока девяти лет довольно необычным образом, а именно засунув в рот резиновый шланг от газового баллона. Вопрос не лишний, так как сходный вариант не раз возникал и в стихах Дениса – и опять в контексте его излюбленной темы – нужности или ненужности для жизни поэзии и поэта:
С полной жизнью налью стакан,
приберу со стола к рукам,
как живой, подойду к окну
и такую вот речь толкну:
Десять лет проливных ночей,
понадкусанных калачей,
недоеденных бланманже:
извиняюсь, но я уже.
Я запомнил призывный жест,
но не помню, какой проезд,
переулок, тупик, проспект,
шторы тонкие на просвет,
утро раннее, птичий грай.
Ну, не рай. Но почти что рай.
Вот я выразил, что хотел.
Десять лет своих просвистел.
Набралось на один куплет.
А подумаешь — десять лет.
Замыкая порочный круг,
я часами смотрю на крюк
и ему говорю, крюку:
“Ты чего? я еще в соку”.
Небоскребам, мостам поклон.
Вы сначала, а я потом.
Я обломок страны, совок.
Я в послании. Как плевок.
Я был послан через плечо
граду, миру, кому еще?
Понимает моя твоя.
Но поймет ли твоя моя?
Как в лицо с тополей мело,
как спалось мне малым-мало.
Как назад десять лет тому —
граду, миру, еще кому? —
про себя сочинил стишок —
и чужую тахту прожег.
Читая последние стихи Новикова, понимаешь вот еще что: этот Моцарт поэзии, таит в себе, как оказывается, свойства самого что ни на есть среднего человека со всеми его предрассудками, растерянного обывателя, переживающего разнообразные сломы на бытовом уровне даже глубже, нежели на духовном. Поэт же, виртуозно фиксирующий это состояние в стихах, но при этом неспособный к более высоким и глобальным обобщениям, это свойство и не скрывает, даже выставляет его на всеобщее обозрение. Наиболее полно – вот в этом:
От отца мне остался приёмник - я слушал эфир.
А от брата остались часы, я сменил ремешок
и носил, и пришла мне догадка, что я некрофил,
и припомнилось шило и вспоротый шилом мешок.
Мне осталась страна - добрым молодцам вечный наказ.
Семерых закопают живьём, одному повезёт.
И никак не пойму, я один или семеро нас.
Вдохновляет меня и смущает такой эпизод:
как Шопена мой дед заиграл на басовой струне
и сказал моей маме: <Мала ещё старших корить.
Я при Сталине пожил, а Сталин загнулся при мне.
Ради этого, деточка, стоило бросить курить>.
Ничего не боялся с Трёхгорки мужик. Почему?
Потому ли, как думает мама, что в тридцать втором
ничего не бояться сказала цыганка ему.
Что случится с Иваном - не может случиться с Петром.
Озадачился дед: <Как известны тебе имена?!>
А цыганка за дверь, он вдогонку а дверь заперта.
И тюрьма и сума, а потом мировая война
мордовали Ивана, уча фатализму Петра.
Что печатными буквами писано нам на роду -
не умеет прочесть всероссийский народный Смирнов.
<Не беда, - говорит, навсегда попадая в беду, -
где-то должен быть выход>. Ба-бах. До свиданья, Смирнов.
Я один на земле, до смешного один на земле.
Я стою как дурак, и стрекочут часы на руке.
<Береги свою голову в пепле, а ноги в тепле> -
я сберёг. Почему ж ты забыл обо мне, дураке?
Как юродствует внук, величаво немолвствует дед.
Умирает пай-мальчик и розгу целует взасос.
Очертанья предмета надёжно скрывают предмет.
Вопрошает ответ, на вопрос отвечает вопрос.
Как же, все-таки, найти ответ хотя бы на один вопрос? В зрелые годы Денис попробовал обрести его посредством обретения связи с исчезающей, как всем нам тогда казалось, Россией (гибель страны впечатляюще запечетлена во многих его стихах). Об этой России он проникновенно напишет в 92-м году – и ему удастся дать наиболее, пожалуй, объемный во всей русской поэзии переломных девяностых годов портрет времени и стране.
Ты белые руки сложила крестом,
лицо до бровей под зеленым хрустом,
ни плата тебе, ни косынки –
бейсбольная кепка в посылке.
Износится кепка — пришлют паранджу,
за так, по-соседски. И что я скажу,
как сын, устыдившийся срама:
«Ну вот и приехали, мама».
Мы ехали шагом, мы мчались в боях,
мы ровно полмира держали в зубах,
мы, выше чернил и бумаги,
писали свое на рейхстаге.
Свое — это грех, нищета, кабала.
Но чем ты была и зачем ты была,
яснее, часть мира шестая,
вот эти скрижали листая.
Последний рассудок первач помрачал.
Ругали, таскали тебя по врачам,
но ты выгрызала торпеду
и снова пила за Победу.
Дозволь же и мне опрокинуть до дна,
теперь не шестая, а просто одна.
А значит, без громкого тоста,
без иста, без веста, без оста.
Присядем на камень, пугая ворон.
Ворон за ворон не считая, урон
державным своим эпатажем
ужо нанесем — и завяжем.
Подумаем лучше о наших делах:
налево — Маммона, направо — Аллах.
Нас кличут почившими в бозе,
и девки хохочут в обозе.
Поедешь налево — умрешь от огня.
Поедешь направо — утопишь коня.
Туман расстилается прямо.
Поехали по небу, мама.
И далее она постоянно будет возникать в его стихах. Пока, в конце конце концов, и он сам от нее не отпадет, отойдет в сторону:
Что нам жизни и смерти чужие?
Не пора ли глаза утереть.
Что – Россия? Мы сами большие.
Нам самим предстоит умереть.
Этот же отпад – более развернуто – в стихотворении Народная драма:
К Ивану-и-Марье я третьим примкну
Последней любовью заняться.
Безносая смотрит, прилипнув к окну,
Но не на чем ей удержаться.
С Иваном-да Марьей, а больше ни с кем.
Утихни, хипарь-колокольчик.
И глух, наедаясь любовью, и нем,
Иван отступить не захочет.
И Марья к иконам глаза отведет.
Но третьего чревом признает,
Простые слова для Ивана найдет,
И смерти дурак уступает.
Любви пересол проберет по спине:
Не ветром склоненная Марья –
Докуда коса дорастает ко мне…
Настенный сорву календарь я –
Все кончено! Сельский захлопнется клуб
И фабрики цех трикотажный.
Вот так же и мы на убой и на сруб, -
С любовью подумает каждый.
Здесь, кажется, уместно сказать еще об одном важном хотящегося спастись человека – будь то поэт, будь то шахтер, будь то дворник – свойстве, наиболее важном все-таки для поэта (понимая этот термин в широком значении), поэта-пророка, а тем более мнящего себя таковым (а кто не мнит?), - свойстве, которое, кажется, так до конца жизни и не приобрел Новиков; его, кстати, совершенно упускает в своих размышлениях о Денисе о. Константин. Это свойство – смирение, и оно может приобретаться поэтом двояким образом: либо отказом от действительно тяжелого креста поэта-пророка ради приобретения усреднено-человеческого и далее следования по этому пути к Богу; либо же отказом от мира ради поэтического, понимаемого как пророческое.
Можно было бы подумать, что Новиков выбрал первое – но дело, как мне кажется, обстоит намного сложнее. Ибо Денис никакого выбора, собственно и не делал: поэзию, скорее всего, он оставил не по смирению, а по гордости – точно так же, как ею раннее к ней пришел, - и сродни тому, как кончает жизнь самоубийца: вам все равно, есть я или меня нет, ну так и вы мне не нужны (имея ввиду критиков и читателей; но, главным образом, наверно ,все-таки, критиков, никак не отреагировавших на выход Самопала). Косвенным подтверждением этому тезису могут служить слова, сказанные Денисом незадолго до ухода: поэзия никому не нужна. Фраза существеннейшая: какая разница, нужна твоя поэзия или нет, если ты действительно пророк, т.е. избранник Божий, а, следовательно, твоя поэзия угодна Ему (этот момент тоже упущен у о. Константина, вообще-то выстроившим свои рассуждения вокруг этой темы). Здесь даже больше: не поэзия не нужна, а поэт, который, по мнению Дениса и ему подобных, есть однозначный венец человечества, целиком отражающий его (как и многое другое, сему сопутствующее) в собственном творчестве; в этом качестве он и должен восприниматься читателем. Смещение этого центра, отодвигание его на обочину, а то и на задворки жизни для поэтов вроде Дениса и вправду может составить нешуточную трагедию.
В связи с этим еще об одном изъяне, присутствующий в размышлениях поэта Кравцова о поэте Новикове. В них поэзия, рассматриваемая как нечто Богоданное, но зато и однозначно не зависящее от человеческих качеств поэта, в том числе и приобретено-греховных, понимается не как сумма, так сказать, их взаимодействий, но лишь со стороны наличия первого, которое однозначно хорошо; второе же слагаемое остается под вопросом. Между тем вряд ли могут возникнуть сомнения в том, что и Божественный дар, данный человеку и его собственная человеческая качественность взаимно зависимы, и оба влияют друг на друга.
Но, к сожалению, в современной поэзии (а Денис, как все признают, был наиболее ярким ее представителем последних десятилетий ХХ века), похоже, вообще не задан правильный вектор поиска; раньше он был направлен к Богу, теперь – к обожествляемому человеку, как правило, к себе. Или же, в лучшем случае, к своему подобию, воспринимаемому заместителем Бога.
Еще и поэтому дело ухода из поэзии есть акт неизбежного смирения. И именно по этой отказ причине Новикова от поэзии, без которой он не представлял себе дальнейшей жизни, да еще сгоряча, представляется как важнейшая предпосылка его кончины.
Мать-Россия, кукушка, ку-ку!
Я очищен твоим снегопадом.
Шапки нету, но ключ по замку.
Вызывайте нарколога на дом.
Уж меня хоронили дружки,
Но известно крещенному люду,
Что игольные ушки узки.
А зоилу трудней, чем верблюду.
Ну-кась, выкуси, всякая гнусь!
Я обветренным дядей бывалым
Как ни в чем не бывало вернусь
И пройдусь по знакомым бульварам.
Вот Охотный бахвалиться ряд,
Вот скрипит и косится Каретный,
И не верит слезам, говорят,
Ни на грош этот город конкретный.
Тот и царь, чьи коровы тучней.
Что сказать? Стало больше престижу.
Как бы это назвать поточней,
Но не грубо? – А так: ненавижу
Загулявшее это хамье,
Эту псарню под вывеской «Роял».
Так устроено сердце мое,
И не я мое сердце устроил.
Но ничто, проживем и при них,
Как при Лене, при Мише, при Грише,
И порукою – этот вот стих,
Только что продиктованный свыше.
Тех, кому мои рассуждения покажутся излишне радикальнымими, а может, и бесчеловечными в отношении далеко не безразличного мне человека, об упокоении души которого я ежедневно молюсь, прошу понять меня правильно: эти рассуждения безэммоциональны, я ни в коем случае не обвиняю и не осуждаю, я просто пытаюсь прояснить для себя, а возможно и для кого-то, причину его трагедии. А она, на мой взгляд, вот в чем.
В одном человеке (а в поэте особенно) вообще одновременно существуют и требуют воплощения человек религиозный и зачастую мешающий его воплощению в этом направлении душевно-поэтически настроенный ветхий человек, не хотящий или не могущий уступить первенство все более набирающему вес религиозному.
Поэтому довольно часто именно привязанность к творчеству может стать человеку не только утешителем, но и врагом. Судьба Дениса Новикова – пример придавленности человека собственным даром, поэзия в этом ракурсе может быть уподоблена гробовой плите, легшей над ним еще при жизни, из-под которой уже невозможно было выкарабкаться.
Поняв это, некоторые из поэтов умолкали навсегда, совершенно выбросив даже мысли о поэзии, некоторые умолкали на время – понимая, что не смогут с ней расстаться, брали паузу, чтобы обрести в дальнейшем некий новый (подразумеваю – религиозный) уровень.
Новикову, который перестал писать, не перестав при этом быть поэтом – не удалось ни то, ни другое.