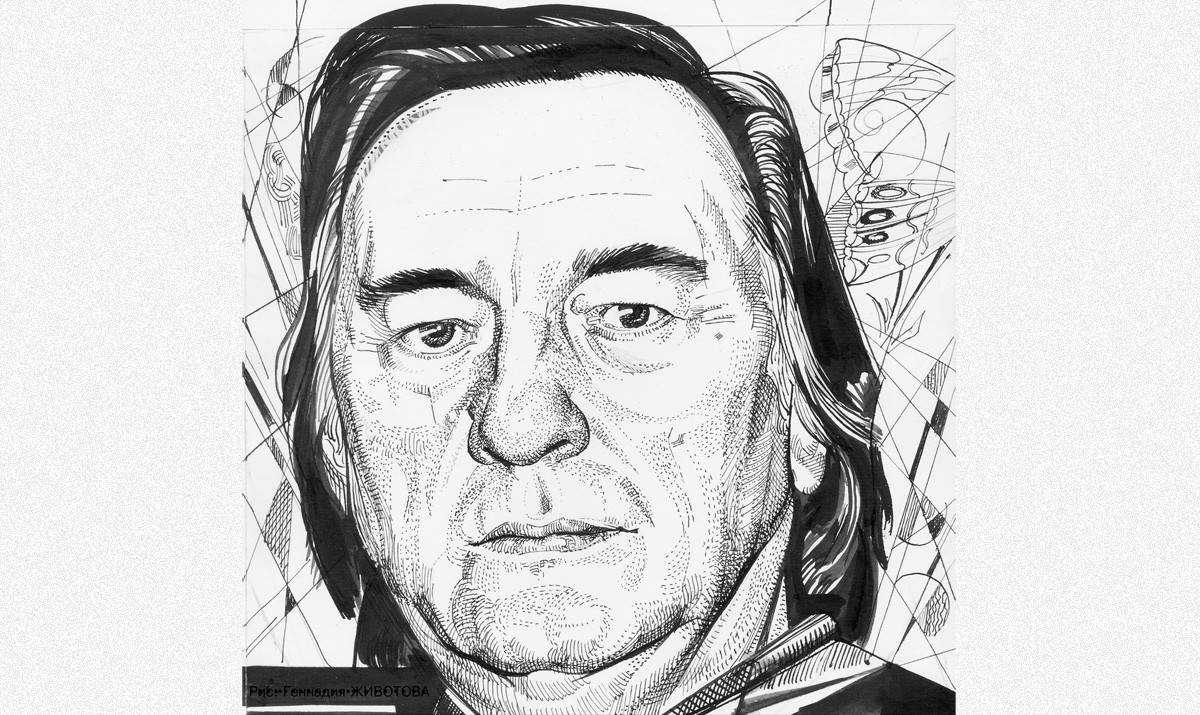Какой-то вселенский нечестивый шабаш определяет атмосферу и движет сюжет гоголевской «Ночи перед Рождеством» - повести и вправду очень смешной, в которой на земле, невзирая на Рождественский сочельник, непредсказуемыми зигзагами пролагают тропы жаждущие выпивки, жирных скоромных закусок и плотских утех многочисленные диканьские жители, а по небу вдоль и поперек носятся в различных направлениях черт с ведьмой. Да и не только они, и не только в Диканьке – подобную нечисть видит в воздухе во время своего полета с чёртом и кузнец Вакула. Не исключено, правда, что всё может быть объяснимо суевериями малороссийских жителей, умудряющихся разглядеть в обыкновенных природных явлениях Бог весть что.
«Всё было светло в вышине. Воздух в легком серебренном тумане был прозрачен. Все было видно; и даже можно было заметить, как вихрем пронесся мимо их, сидя в горшке, колдун; как клубился в стороне облаком целый рой духов; как плясавший при месяце черт снял шапку, увидавши кузнеца, скачущего верхом; как летела возвращающаяся назад метла, на которой, видно, только что съездила, куда нужно, ведьма…много еще дряни видали они. Все, видя кузнеца, на минуту останавливалось поглядеть на него, и потом снова неслось далее и продолжало свое; кузнец все летел, и вдруг заблестел перед ним Петербург весь в огне».
Описание Петербурга, сделанное точно в таком же духе, отличающееся некой, какая бывает только в болезненном бреду, зудящей, дробящейся и подавляющей сознание навязчивостью, следующее сразу же вслед за этим, впритык, дает основание предполагать, что те же инфернальные силы правят бал и на его проспектах и площадях.
Показательна реакция пространства на все эти чрезмерности.
«Чёрт, перелетев через шлагбаум, превратился в коня и кузнец увидел себя на лихом скакуне посреди улицы. Боже мой! Стук, гром, блеск; по обеим сторонам громоздятся четыреэтажные стены; стук копыт коня, звук колеса отзывались громом и отдавались с четырех сторон; домы росли, и будто подымались из-под земли, на каждом шагу; мосты дрожали; кареты летали; извозчики, форейторы кричали; снег свистел под тысячью летящих со всех сторон саней».
Единственное, что лишено движения в этом бестолково-суетящемся, кричащем и летящим к чёрту на рога пространстве – это фигуры людей; но и они под его давлением деформируются, вдавливаются в стены, и, словно бы растягиваемые в длину, тянутся куда-то вверх. «Пешеходы, - пишет Гоголь, - жались и теснились под домами, унизанными плошками, и огромные тени их мелькали по стенам, достигая головою труб и крыш».
И, наконец, реакция на всё увиденное Вакулы. «С изумлением оглядывался кузнец во все стороны. Ему казалось, что все домы устремили на него свои бесчисленные, огненные очи и глядели».
Это описание найдет свое продолжение в повести «Невский проспект», где таинственный мир, взрывающий фальшивые огни фейерверков перед очарованными глазами Вакулы, предстанет там в настоящем своем свете, а силы, содействующие его очарованию, будут названы впрямую: «Всё обман, всё мечта, всё не то, чем кажется. Далее, ради Бога, далее от фонаря! И скорее, сколько можно скорее, проходите мимо. Он лжет во всякое время, но более всего тогда, когда ночь сгущенную массою наляжет на него и отделит белые и палевые стены домов, когда весь город превратится в гром и блеск, мириады карет валятся с мостов, форейторы кричат и прыгают на лошадях, и когда сам демон зажигает лампы для того только, чтобы показать все не в настоящем виде». Как же при таком положении дел, которое наблюдает во время путешествия Вакула, не быть суетным черту, если так суетны люди, ведь тёмные силы в этой повести так же схожи с людьми, как и люди с ними. «Чудно устроено на нашем свете, - отмечает Гоголь. - Всё, что ни живёт в нём, всё силится перенимать и передразнивать один другого. Словом, всё лезет в люди. Когда эти люди не будут суетны! Можно побиться об заклад, что многим покажется удивительно видеть черта, пустившегося туда же».
Действительно, ухаживания чёрта за Солохой ничем не отличаются от ухаживаний за нею дьяка; вообще эти персонажи предстают в повести едва ли не как зеркальные отражения друг друга; тождественны с чертовскими повадками повадки земных жителей, оба мира, которых они представляют, как две части разорванной картинки совмещаются друг с другом, их, что видно уже из истории с Солохой, занимают одни и те же интересы. Обратим внимание, что главная попойка, занимающая воображение большинства героев, должна происходить в доме духовного лица – дьяка; а самого дьяка немного позже мы видим в числе других (в том числе и черта) зашедшим к Солохе с целью получения определенного рода утех. Характерно для всей этой разношерстной публики также и то, что если она и решается на поход в церковь, то не прежде захода к Солохе, а то и в шинок, а уж затем на службу: «может, и того будет можно», недвусмысленно говорит направляющийся к Солохе в эту же рождественскую ночь Чуб. «Дворянин (т.е. казак), - пишет Гоголь, - нарочно для этого делал большой крюк, и называл это заходить по дороге». Можно представить, какие благочестивые помыслы посещают их в церкви после двух первых посиделок. А, впрочем, и представлять не надо – вот как описывает их, стоящих за Рождественской обедней после ночных похождений, сам Гоголь: «На всех лицах, куда не взглянь, виден был праздник: голова облизывался, воображая, как он разговеется колбасою; девчата помышляли о том, как они будут ковзаться с хлопцами на льду: по всей церкви слышно было, как козак Свербыгуз клал поклоны». И, конечно же, эти неуместные для Рождества земные поклоны, которые по уставу запрещены на Святках, объясняются не рьяным благочестием Свербыгуза, но всего лишь последствиями не до конца выветрившихся сивушных паров от самогона, в изобилии принятого на грудь накануне. Ведь у дьяка, куда приглашены едва ли не все персонажи повести, за ужином в Рождественский сочельник предполагается, кроме кутьи, т.е. сочива, «варенуха, перегонная на шафран водка и много всякого съестного». Воздействием варенух могут быть объяснимы и толпы гулящей публики на улицах малороссийского села в предрождественскую ночь. Не удивлюсь, если и новейший перенос малороссийского Рождества на две недели раннее положенного инициирован ни чем иным, как упорством хохлов, возжелавшим сократить надоевший пост и поскорее усесться за стол, заставленный бутылями и колбасами. Об общеизвестном хохлацком упрямстве можно догадаться по другим деталям «Ночи перед Рождеством», скажем, по повадкам казака Чуба, которому «было очень неприятно тащиться в такую ночь; но его утешало то, что он сам нарочно этого захотел и сделал таки не так, как ему советовали».
Сходная непоследовательность определяет и крайне своевольную и весьма своеобразную религиозность малороссов. Чего стоят штуки, которые откалывает самый религиозный и богобоязненный диканьский житель кузнец Вакула после временного разочарования в Оксане; а ведь он, напомню, не только староста диканьского храма, но еще и иконописец, изобразивший на одной из его стен черта «такого гадкого, что все плевали, проходя мимо». Нечто иррациональное, прелестное есть в его привязанности к Оксане, в его высказываниях о ее обольстительности, на равных присутствуют и сакральное, и демоническое. «Боже ты мой, отчего она так чертовски хороша. Её взгляд, и речи, и всё, ну вот так и жжёт, так и жжёт». (маркер – мой.)
Далее это жжение, вернее невозможность его погашения подсказывает Вакуле вот что: «Нет, не в мочь уже пересилить себя! Пора положить конец всему: пойду утоплюсь в проруби, поминай как звали!» Но затем следует ещё один зигзаг, порожденный складом изворотливого малороссийского ума. «Вакула, между тем, пробежавши несколько улиц, остановился перевести дух. «Куда в самом деле я бегу? подумал он, как будто все пропало. Попробую еще средство: пойду к запорожцу Пузатому Пацюку. Он, говорят, знает всех чертей и всё сделает, что захочет. Пойду, ведь все равно душе придется пропадать».
Наиболее интересны поведение и мысли Вакула в избе Пузатого Пацюка, в особенности при поедании последним вареников со сметаной.
«Вишь, какое диво!» подумал кузнец, разинув от удивления рот. И тот же час заметил, что вареник лезет ему в рот, и уже вымазал губы сметаною. Оттолкнувши вареник и вытерши губы, кузнец начал размышлять о том, какие чудеса бывают на свете и до каких мудростей доводит человека нечистая сила, заметя притом, что один только Пацюк может помочь ему. «Поклонюсь ему еще, пусть растолкует хорошенько…Однако, что за черт! Ведь сегодня голодная кутья; а он ест вареники, вареники скоромные! Что я, в самом деле, за дурак! Стою тут и греха набираюсь! Назад!» и набожный кузнец опрометью выбежал из хаты».
Отметим, сколь наглядно предстает в этом месте смешанность понятий, связанная, так сказать, с тяжестью греха, а точнее с оценочной относительностью его. Не удивительно ли, в самом деле: человек решился покончить с собой, погубить душу, затем - вступить в сделку с чёртом, чтобы с его помощью заполучить в жены девушку, которая его не любит, но при этом так щепетилен к потреблению скоромной сметаны: стало быть, торговаться с чертом накануне Рождества не грех, а смотреть, как едят вареники со сметаной – грех не прощаемый. Это смешение понятий не менее наглядно сказывалась и раннее, при прощании Вакулы с товарищами, где он вроде бы забывает об учении церкви относительно участи самоубийц и выражает уверенность во встрече с приятелями на том свете.
«Прощайте, братцы!» кричал в ответ кузнец. «Даст Бог, свидимся на том свете; а на этом уже не гулять нам вместе. Прощайте, не поминайте лихом! Скажите отцу Кондрату, чтобы сотворил панихиду по моей грешной душе. Свечей к иконам Чудотворца и Божьей Матери, грешен, не обмалевал за мирскими делами. Все добро, какое найдется в моей скрыне, на церковь! Прощайте!».
И напоследок - вот ещё о чём. Может ли быть счастлив брак кузнеца с ветреной избалованной Оксаной, из которой, как сам он говорит в минуту просветления, никогда не будет хорошей хозяйки, если самую непосредственную и даже решающую роль сыграл в этом деле подарок, добытый как никак, однако же при содействии нечистой силы, тем более, что и настоящей причиной её перемены в отношении его служат следующие тщеславные соображения самолюбивой Оксаны: «чего доброго, может быть, он с горя надумает влюбиться в другую и с досады начнёт называть её первою красавицею на селе». Примем здесь во внимание ещё и то, что та же нечистая сила в лице Солохи находится с кузнецом в самом что ни на есть прямом родстве. И если бы не этот брак, то с матерью Вакулы, скорее всего, с теми же самими вытекающими отсюда последствиями сочетался отец Оксаны. А от перестановки слагаемых сумма, как известно, не меняется.
Кому-то, быть может, покажется забавным и даже странным, что я столь педантично и серьёзно исследую перипетии этого вообще-то явно сказочного сюжета, при том пытаясь их ещё и перетолковать. Но его детали, очень точно и по сути своей вызывающие вполне оправданные, расходящиеся кругами контексты, определяющие такое расплывчатое понятие, как малороссийское благочестие, сказавшееся и на мировоззрении самого Гоголя, породило нарочитую серьёзность моей интерпретации в общем-то типичной для его раннего творчества повести и расставить напрашивающиеся акценты.