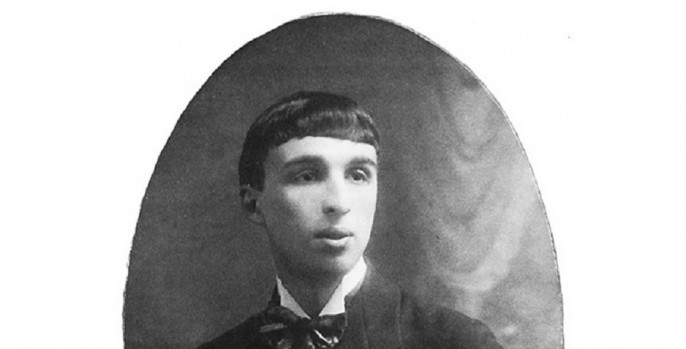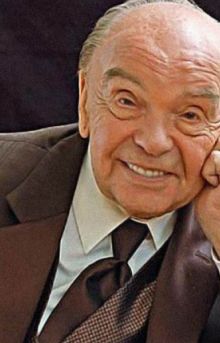Голос его – стоического отчаяния, онтологического сопротивления онтологическому же кошмару бытия; голос сильный, лишённый какой бы то ни было аффектации, скорее констатация трагедии, нежели она сама:
Белая лошадь бредёт без упряжки.
Белая лошадь, куда ты бредёшь?
Солнце сияет. Платки и рубашки
Треплет в саду предвесенняя дрожь…
Я, что когда-то с Россией простился
(Ночью навстречу полярной заре),
Не оглянулся, не перекрестился
И не заметил, как вдруг очутился
В этой глухой европейской дыре.
Хоть поскучать бы… Но я не скучаю.
Жизнь потерял, а покой берегу.
Письма от мёртвых друзей получаю
И, прочитав, с облегчением жгу
На голубом предвесеннем снегу.
Боль и соль эмиграции – нищей, неустроенной, боль, рождающая шедевры: таинственные, как взгляд в запределье, и, хоть запределье Иванова – холод миллионолетий, в нём отражены и стоицизм, когда надо жить, несмотря на постоянное отчаяние, и… нечто столь сложное, что ощущается оно только уровнем сердечной тайны:
Хорошо, что нет Царя.
Хорошо, что нет России.
Хорошо, что Бога нет.
Только желтая заря,
Только звезды ледяные,
Только миллионы лет.
Хорошо — что никого,
Хорошо — что ничего,
Так черно и так мертво,
Что мертвее быть не может
И чернее не бывать,
Что никто нам не поможет
И не надо помогать.
Не надо помогать – безнадёжность, возведённая куб, но корень квадратный из области бытия выведен чётко.
Мало слов.
Тот минимум, что гарантирует величие смысла.
Благородно бедный словарь – любая избыточность, как жир души.
Не говоря – поэзии.
Простота рифм – скорее грациозное изящество оных: зачем загромождать стихи вычурными, составными, сложными?
Ведь – вывод из жизни таков:
Друг друга отражают зеркала,
Взаимно искажая отраженья.
Я верю не в непобедимость зла,
А только в неизбежность пораженья.
Не в музыку, что жизнь мою сожгла,
А в пепел, что остался от сожженья.
Вместе с Ходасевичем ближе других подошёл к понятию «совершенство»: поскольку его не определить, то и невозможным кажется, достичь оного.
Зеркальность строк мерцает потусторонним, и шевелящийся пепел завораживает, как пред тобой разыгранная сложнейшая драма.
Драма-яма – из которой выводят стихи.
Никуда не выведут, победа их над смертью – иллюзия, смерть никуда не делась, вечно вовсю работает косой.
И нищета пищит, как крыса, которой придавали хвост.
Мизантропия проступает поэтическим совершенством:
А люди? Ну на что мне люди?
Идет мужик, ведет быка.
Сидит торговка: ноги, груди,
Платочек, круглые бока.
Природа? Вот она природа —
То дождь и холод, то жара.
Тоска в любое время года,
Как дребезжанье комара.
Конечно, есть и развлеченья:
Страх бедности, любви мученья,
Искусства сладкий леденец,
Самоубийство, наконец.
Иезуитская ирония финала…
Стихи Г. Иванова запоминаются чуть ли не с одного прочтения: сами мёдом ложатся в ячейки памяти, ведь, несмотря на скорбь содержания, меда много в блеске строк, в ажурном их, серебряном плетении…
В необыкновенной музыке…
Иванов, проживший туго, трудно, болью и солью переживавший эмиграцию, не столь уж много и публиковавшийся, познавший проклятое нищебродство, не получавший никаких премий, не имевший денежной поддержки (сколько же сейчас покупается регалий и прочих литудовольствий за деньги!) – прожёгся подлинностью величия в классики.
Ни у кого, кто ещё способен слышать слово, не остаётся сомнений.