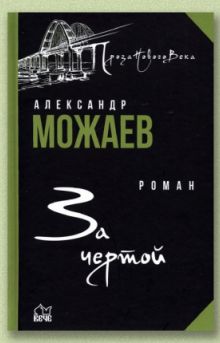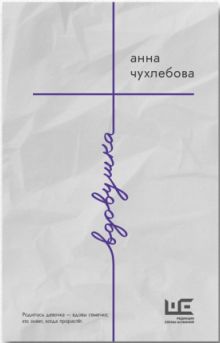225 лет назад родился Пушкин, 200 – умер Байрон. Старший и младший современники? Да. Учитель и ученик? Нет. Европейский байронизм, преобразованный в русский пушкинизм? Стоит обсудить.
Здесь не будет подтвержденной цитатами рациональной научности. Наша задача скромна – подвести итог собственному стодневному погружению в жизнь и творчество Пушкина и Байрона; форма итога – сочетание тезисов и эссеизма, только так появляется шанс сказать нечто важное о наших гениях в современной прагматике их двухвековой совместности, ставящей вопрос о разных мировоззрениях.
Начинать нужно не с очередного эпизода противостояния России и Запада, а с объявления главного единства. Во-первых, высочайшее, сопряженное с многозначительной эволюцией качество поэтики Байрона и Пушкина. Во-вторых, практически невозможное в наши дни личностное, всеохватное, доходящее до сгорания присутствие авторов в своих текстах; не поверхностно-событийный, а глубинный автобиографизм, позволяющий каждой из двух поэтик предстать методологией жизнестроительства. В-третьих, словно специально построенная в областях особого риска судьба с ее трагической развязкой. Все это делает Пушкина и Байрона незаменимыми для апологии литературы.
От сложной, многожанровой художественности – к философии поступка, к динамичному созиданию собственной судьбы. Это и об английском поэте, и о поэте русском. Если бросить взгляд на две состоявшиеся, быстро взорвавшиеся жизни, можно говорить о близости конкретных фабул существования. Начало пути без особого присутствия солнца: «Детство Байрона было сплошной трагедией» (А. Моруа); «Пушкин был человек без детства» (Ю. Лотман), в стихах поэт ни разу не упомянул ни отца, ни мать. Безусловное принятие друзей и «школьных» товарищей как истинной семьи. Постоянная борьба с неврозами: хромотой, застенчивостью, отсутствием видимой красоты, зависимостью от карт или алкоголя. Байроновское вегетарианство, влечение к боксу и плаванию; пушкинская ежедневная трость для укрепления твердости руки. Напоминающие проверку себя и одновременно поиск смерти частые, почти хронические дуэли; поиск одиночества для вдохновения и бегство от него. Сложные отношения с элитами своих стран, доходящие до ссылок и эмиграций. Очевидное желание не сидеть на одном месте, перемещение сознанием по разным временам, а телом – по многим пространствам. Осторожный, а иногда и бурный поиск счастья, надежды на создание крепкой семьи. Стремление стать профессиональным литератором, получать за тексты достойные деньги; бесконечные атаки критиков и не только литературных врагов. Борьба с охватывающей суетой, поиск и утраты надежного дома. И разные симулякры стабильности: навязанная Пушкину зависимость от аристократических ритуалов или внешне смешное «звериное» окружение Байрона, рядом с поэтом собаки (они удостаиваются роскошного погребения), медведи, обезьяны, ежи, черепахи, ручная лань – и суета, суета, суета. Кульминация и развязка – сознательное движение навстречу героической беде: на пике славы и разрастающейся житейской «горизонтали» Байрон создает «греческий сюжет» (становится воином, почти полководцем, одним из главных спонсоров освобождения от многовековой турецкой оккупации, принимает смерть), Пушкин отстаивает личную и семейную честь, взвинчивает конфликт с Дантесом до точки невозврата, вслед за Байроном отмечая состоявшийся путь печатью трагедии и вечного вопроса о закономерности или случайности данного финала.
Трагифарсовая необходимость многих, очень многих женщин – у обоих поэтов. Да, в этом есть мода тех давних лет. Раскованность нравов, переходящая в распущенность и ставящая любовную игру на первое место среди всех азартных игр. Чего стоит итальянская, да, пожалуй, и общеевропейская фигура чичисбея: после года брака молодая женщина почти должна завести спутника, который сопровождал бы ее в выходах из дома, часто был при этом любовником и как-то взаимодействовал с мужем своей спутницы. Двусмысленность эроса и раскачивание семьи грешными связями – норма плавающей этики рубежа XVIII-XIX веков. Обойдемся без обращения к «донжуанскому списку» Пушкина (1829 год, 37 имен). Дело не в его реальности или относительной фантазийности, до определенного времени Пушкин нуждался в любовных приключениях и не покидал фронт амбивалентности страсти.
У Байрона данная зависимость проявляется в ещё более тяжелой и постоянной форме. Недостижимая Мэри Эни Чаворт, симпатичные служанки в родовом замке, случайные связи во времена «Чайльд-Гарольда», дошедшая до страшной навязчивости Каролина, сводная сестра Августа (именно здесь, в кровосмешении специалисты находят главный узел безысходности житейского байронизма), ненадолго ставшая женой Аннабелла, замужние Марианна и Маргарита в Венеции, родившая Аллегру Клэр, наконец, супруга одного из богатейших итальянцев – Тереза Гвиччиоли, с которой Байрону пришлось стать настоящим чичисбеем, совместить в тяжкой полноте влечение, любовь и сарказм. Брак Пушкина – рывок к истинной семейной свободе, расторжение связей с самой идеей бесконечных влюбленностей и сексуальных обновлений настроения.
Однако нельзя быть несправедливым и к Байрону! Женитьба на Аннабелле формально не удалась, но поэт до самого конца возвращался к мысли о возобновлении отношений. Аннабелла, рациональная христианка, желала совместить любовь к мужу и спасение его души. Когда невозможность спасения и тяжелая реальность параллельной жизни Байрона с сестрой, ещё и родившей дочь Медору, стали очевидными, Аннабелла выбрала одиночество, которое сохраняла до самого конца. Кстати, и с Августой у жены Байрона диалог сохранился и после смерти поэта.
Далее различий будет больше, чем сходств. Байрон – символ разрыва с родиной. Причин несколько, включая возможность уголовного преследования. Но главная причина – нелюбовь к Англии и жажда многолетнего, даже пожизненного паломничества, внерелигиозного поклонения просиявшим в земных чудесах землях. Байрону нужны Португалия, Албания, Греция, Турция, Италия, в тексте «Дон Жуана» он с интересом перемещается в Россию. Путешествие Пушкина за пределы России не выходит. Конечно, можно вспоминать о неоднократном ходатайстве поэта о выезде и о полученных отказах. Однако в цельности пути пушкинские пространства выглядят как антибайроновские, потому что свои, не заграничные: Молдавия, Одесса, Крым, Кавказ, Михайловское, Болдино, Нижний Новгород, Казань, Оренбург, Калмыкия, Грузия, Арзрум. У англичанина – словно эмиграция на чужой Восток, тяготение к всемирности с едкими комментариями на полях «английского сюжета». У нашего – фактическое и текстовое расширение империи: «Бахчисарайский фонтан», «Кавказский пленник» с «Цыганами», путевые заметки «Путешествие в Арзрум». С большим вниманием к иным правилам жизни, с любовью, уважением и реализмом (а не только байронизмом!) к территориям, которые одновременно русские и сохраняющие смысл другой, таинственной и по-своему совершенной цивилизации. Координирующий рассказчик в «Чайльд-Гарольде», «Корсаре» или «Дон Жуане» внимателен к очередной возникающей стране, но по-настоящему захвачен своим состоянием – как отчаянием, так и действительно нарастающим героизмом. Пушкин в объективности новых мест расширяет самого себя, одновременно проводя мощную тестовую колонизацию и склоняясь перед правдой тех мест, которые не всегда были Россией. В байронизме страдающая в избыточной яркости душа как бы разрушает империю, в пушкинизме происходит ее детализированное становление.
С этим связано категорическое неверие Байрона в государство как красоту и справедливость. В пушкинском мире разыгрывается драма с государством, властью, важнейшая интрига – в отношениях народа и государства. Через всю жизнь Пушкина проходят вопросы об участии в расширении власти государства и возможном восстании против государственной машины, неизбежно включающей в себя слишком юридические, подчеркнуто фарисейские компоненты и нормы поведения. В этом контексте сложные отношения с движением декабристов, приближение и удаление от него. Тут и Южная ссылка, вроде определяющая лишь относительную свободу перемещений и все же напоминающая командировку с массой поистине приятных моментов – творческих, дружеских и любовных встреч. Многолетний диалог с Николаем Первым, необходимость учитывать его как главного цензора и строгого покровителя. Попытка дистанцироваться от царя и понимание той странной правды, что «Бориса Годунова» по-настоящему поддержал он один. Трудности с выездом из Санкт-Петербурга без специального разрешения, тягостный официоз на позиции коллежского секретаря и особенно титулярного советника, не слишком соответствующего ни возрасту, ни мирозданию Пушкина. Балы государственного масштаба, ответственность перед властью, которая пыталась сделать из Пушкина не просто патриота, но государственного поэта. И приходится ему печально писать на закладке одной из личных книг: «Воды глубокие / Плавно текут. / Люди премудрые / Тихо живут».
Байрон все подобные связи стремился быстро отсечь, в целом ему это удавалось. У Байрона нет своего Петра, есть лишь тоска о Наполеоне – один из значимых пунктов байронизма. Нет Петра (пусть и на западный лад), нет и народности. В поэме «Мазепа», написанной с большим доверием к одному недостоверному источнику, все внимание - обреченному на смерть герою, привязанному к скачущему коню. России и Украины, малороссийских проблем тут не появляется. В «Полтаве» романтический злодей очевиден, байроническая основа отношений мужчины и женщины, гениального эгоиста с внешним миром могут быть найдены и закономерно отмечены. Но тут есть российская история, а главное – явление Петра, занимающегося делом, а не трансляцией слишком персональных страстей, чем и занимается пушкинский Мазепа. У Байрона нет и намека на «Медного всадника», где две правды – повседневного человека и строящейся сверхдержавы – создают трагический сюжет о движении истории, о неизбежной гибели Евгения, который хочет только одного – прожить незаметно и правильно в тихости маленькой правды. Но Бог, государь, бытие и природа не всегда согласны с тишиной. Это Пушкин – поэт не байронический, а трагический – понимает хорошо. Впрочем, мы ещё вернёмся к разному трагизму английского и русского творцов.
Я бы рискнул сказать: Байрон сам себе Пугачёв. Духовное самозванство, преодоление этической классики, бунт как форма общения с элитой, жажда риторического уничтожения инакомыслящих (как Вордсворта и Саути, например). Конечно, такая аттестация необязательна, но лихое пугачевство в байронизме увидеть не возбраняется. Для Пушкина Емельян – огромная русская проблема. В «Истории Пугачёва», где поэт превращается в летописца и историка, никаких шансов разбойнику и его многотысячной шайке не оставлено. Крепости, больше похожие на мирные деревни, захватывает, грабит и заливает кровью нехристь-самозванец, оторвавшийся от всех корней сатанист. Злодейства его соблазнительны для готовых на преступление простецов. Многостраничное перечисление жертв расширившейся уральской бойни поощряет вспомнить христиан первых веков, умученных римскими инициативами по сохранению античного язычества.
Но есть же и «Капитанская дочка»! И вот здесь всё вроде бы простое становится уникально сложным. Вместо проклятий или гимнов появляется неоднократно упоминаемая молитва о Пугачеве или молитвенное упоминание о нем как о человеке, который сумел подняться над примитивностью зла, неоднократно выбрать милосердие и спасти рассказчика там, где спасти было практически невозможно. Превращение бунтовщика в трагическую фигуру русской двойственности, некой неизбежной гибели рискованно сильного человека, а Гринёва – в находчивого и смелого дворянина, балансирующего на грани верности присяге и облеченной в слова симпатии к злодею, говорят, прежде всего, о самом Пушкине. В «Капитанской дочке» он намного проще Байрона, если под простотой понимать уважение к нравственным иерархиям (Гринёв – Швабрин, хороший человек и человек плохой), не слишком ценимым английским мастером словесности. Но в чем-то и сложнее, учитывая, как творец земного ада, убийца ни в чем неповинных людей оказывается иным по отношению к совершенным преступлениям – в фабуле романа и в оценках Гринёва.
Конечно, на усложнение поэтики Пушкина повлияло то, что случилось с Байроном. С вертикальными романтическими сюжетами стали собеседовать, а потом резко укреплять свое присутствие сюжеты горизонтальные, как в «Паломничестве Чайльд-Гарольда», в «Беппо» и «Дон Жуане». Болтовня - часто, но не всегда сатирическая, соединяющая Вольтера с Монтенем, но этим синтезом не ограниченная – превосходит по значению фабулы. Конечно, они интересны в «Дон Жуане» (первая любовь героя, кораблекрушение, спасение Жуана дочерью пирата Гайдэ, участие испанца в русском взятии Измаила), но незаконченность поэмы не только формальная, она – онтологическая, намекающая на потенциальную бесконечность байроновского разговора.
Всё-таки у Пушкина совсем иначе, особенно в «Евгении Онегине». Потрясающая разговорчивость повествователя, создающая эффект неторопливого, семейного погружения в самые разные проблемы, не приводит – как у Байрона – к победе центробежных стихий. Роман оказывается центростремительным, фабульно динамичным и дидактичным, а Онегин – фигурой эволюционного развития, русским ответом на вызовы эффектных байронических пустот. Горизонтальные эпосы Байрона никак не предусматривают того, что случилось между Татьяной, Онегиным, Ленским, Ольгой и рассказчиком.
У Пушкина есть эпизоды легковесности, ненормативности, кощунства, как в «Гавриилиаде» или в шуточной сказке «Царь Никита и сорок его дочерей». Но нет у него концептуализации богоборчества как глубинной позиции героя, парадоксально трансформирующего родовой кальвинизм Байрона в сюжет обреченности и автора, и самого человека, изгнанного из рая, буквально заброшенного в страдания и смерть. Христианство Пушкина спокойно, непротиворечиво и свободно от жажды предлагать инверсии библейских историй. Пушкин живёт без апокрифов. Как живет, так и пишет. «Манфред» и особенно «Каин» – это персональная агрессивная апокалиптика, когда несогласие с мирозданием, с основными законами жизни и смерти, с необходимостью учитывать высшее, абсолютное начало достигает мрачных показателей, соединяя героя, автора и саму атмосферу этого богословия наоборот.
Пушкин вряд ли мог написать стихотворение «Тьма» – апокалипсис без воскрешения, справедливого суда и преображения. Байронизм прекрасно входит в сюжетику фильма Ларса фон Триера «Меланхолия» и мутирует там в эстетически сильных и духовно обреченных гимнах мироотрицанию. Пушкинизму в модной и симптоматичной «Меланхолии» просто нечего делать. Печаль пушкинских элегий пребывает внутри Божьего мира. Манфред с Каином призваны сообщить, что Божий мир, каким он воссоздан в Священном Писании, есть двусмысленность и парадоксальная основа для минорного индивидуализма и субъективизма. Они задают гностический вопрос о подпольной ценности сверженного сатаны.
Дело, конечно, и в Гамлете. Пушкину он значительно меньше интересен, чем Дон Гуан, Клеопатра, Вальсингам, Моцарт или Дон Кихот с его зашкаливающей сердечностью. Гамлет, столь любимый Байроном, всё же лёд и всемирная скорбь. Пушкин все же – нет. Он не с Гамлетом. Да, это разные метафизики в границах художественных миров. Трагизм англичанина включает в себя демонизм и сопряженную с ним иронию дистанции от катарсичного света. Трагизм Пушкина, каким мы находим его в «Маленьких трагедиях» (тут наиболее значим «Пир во время чумы»), в «Египетских ночах», в «Борисе Годунове» и «Медном всаднике», другой природы. Ренессансной, наверное, но это ренессанс не поздний, ещё хранящий главную из утопий Возрождения – веру в яркое и сложное величие человека. Дон Жуан Байрона – гротеск так и не насыщающих душу приключений. Главный герой «Каменного гостя» – восхождение к тотальному бесстрашию по странной лестнице обманчиво низких страстей. У Пушкина всегда больше движения, поэтому он пишет чудесные сказки. Он любит и почитает старшего собрата, скорбит о «рабе Божием Байроне». Но при этом использует его мир как трамплин, предполагающий иной полет.
Трудно представить англичанина, который скажет, что Байрон – наше британское всё…