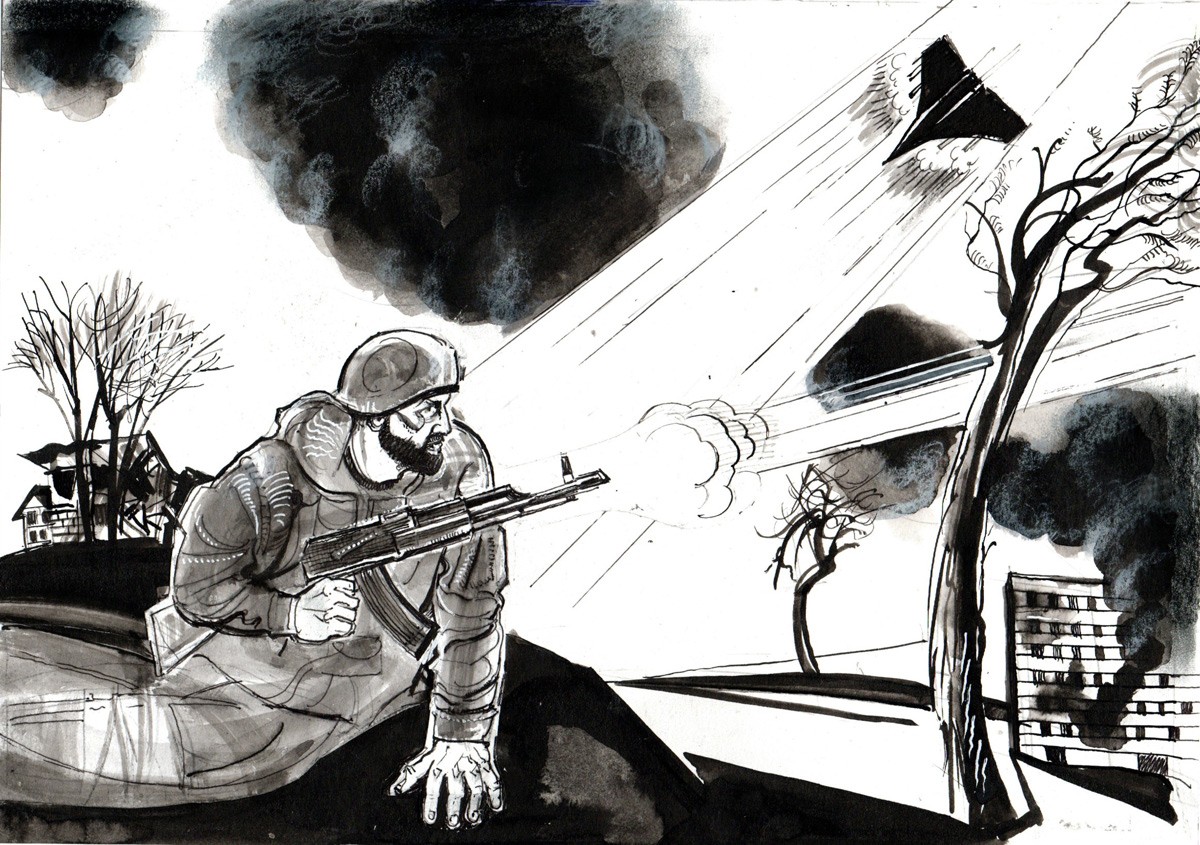Попытки сопряжений Акакия Акакиевича Башмачкина, главного героя гоголевской повести с преподобным Акакием Синайским, в честь которого, вероятней всего, был крещен отец первого, страдают довольно существенным недостатком: в одном случае жизнь гоголевского персонажа трактуется как злостная пародия на житие древнего святого, причем этот факт возводиться в степень краегольного камня, грозящего разрушить само понятие святости, в другом – оба персонажа уравниваются по значимости, а пародийные элементы, несомненно заложенные Гоголем в жизнеописание мелкого человека, игнорируются начисто.
Надо сказать, что пародия, даже самая злостная, ни в коем случае не есть понижение исходного образца, она возникает в процессе столкновения конечного результата с первоисточником. Этими соображениями, думается, руководствовался Гоголь, беря за основу своей повести событийную канву жития древнего святого, при этом, естественно, некоторые ее моменты существенно переосмысливая.
Мой друг, священник и публицист Георгий Селин, который впервые, кажется, применил критерии жития древнего святого к жизни гоголевского героя с целью принижения последнего, если и был прав, то лишь отчасти. Но и я, некогда поименовавший Башмачкина праведником своего времени, был не совсем не прав, так как время в формировании и развитии тех или иных качеств характера человека тоже очень много значит. Я имею ввиду не течение времени как данность и не время как понятийную категорию, но как период, в который выпадает жить тому или иному человеку - период, наделенный некоторыми свойствами и приметами этого времени в их совокупности, больше того - духом, который оказывает совершенно определенное влияние на человека, живущего внутри его. Поэтому на фоне алчных и развращенных своих современников, Башмачкин и вправду выглядит таковым. На фоне же жития преподобного своего тезки – укорененным во множестве грехов грешником, ибо только на таком фоне эти грехи и заметны. И все-таки подчеркнутое сопряжение жизни мелкого петербуржского чиновника, смиренного до поры, затем обретшего чувство собственной значимости, затем взбунтовавшимся против предназначенной ему Богом участи, затем возгоревшимся чувством мести миру, для утоления которой он получает способность шатания между тем светом и этим с житием великого православного подвижника, последовательным преданием себя подвигу свойственной ему добродетели, нельзя не заметить.
Что, собственно, общего между двумя Акакиями, имя которых собственно и переводиться как беззлобный, кроткий? Ничего, кроме способности жить внутренней жизнью, совершенно игнорируя внешнюю; и, кроме того, богоданного смирения, которое первый развивает до непредставимых сознанию обычного человека, в особенности современного, пределов, второй же вынужденно им пользуется, но при первой же возможности, что видно из второй части повести, готов от него отказаться. Незлобивость, кротость и невинность существуют в Башмачкине только до той поры, пока он пребывает в собственном замкнутом, отделенном от внешнего мире и лишен понятия о собственности. Когда же он обретает ее, более того – очаровывается ею, то из потаенного нутра его – великое прозрение Гоголя! - выползает чуть ли не всадник из «Страшной мести». Став владельцем шинели, он тотчас же подвергается воздействию невероятного количества страстей, с которыми не в силах справиться. Ибо в истории наметившейся привязанности Башмачкина к шинели видится перспектива других соблазнов, которые предлагает мир человеку. Если бы не это приобретение, первое и последнее в его жизни, она, эта жизнь продолжала бы ровно идти по накатанной колее, неспешно прогорая и так же ровно бы и сгорела. Но после пропажи шинели заканчивается она вовсе не так, как должна была, по всей видимости, закончиться: в предсмертном бреду кроткий Башмачкин доходит не только до ропота, но и до прямых богохульств, так что, пишет Гоголь, «старушка-хозяйка даже крестилась, от роду не слыхав от него подобного».
Я недаром проговорился о соблазнах, которые пробуждают в герое какие-то рецидивы свойственных ему по родству с некогда изменившим безгрешному естеству Адамом соблазнов, потенциально могущих пробудить и спящий в нем грех. С новой шинелью на плечах, «он остановился с любопытством перед освещенным окошком магазина посмотреть на картину, где изображена была какая-то красивая женщина, которая скидала с себя башмак, обнаживши таким образом всю ногу, очень недурную; а за спиной ее, из дверей другой комнаты, выставил голову какой-то мужчина с бакенбардами и красивой эспаньолкой под губой. Акакий Акакиевич покачал головою и усмехнулся». Не под влиянием ли этой картинки, а может быть и выпитыми на вечеринке впервые в жизни, двумя бокалами вина, Башмачкин некоторое время спустя «даже побежал было вдруг, неизвестно почему, за какою-то дамою, которая, как молния, прошла мимо него и у которой всякая часть тела была исполнена необыкновенной живости».
Если учесть всё перечисленное, то и ограбление Башмачкина, и последующая вслед за ограблением смерть приходятся как нельзя более кстати: Башмачкин умирает именно тогда, когда он выходит из своих вечных пеленок, в которые, казалось бы, должен был быть запеленат до самой смерти; когда, вслед за шинелью, в которую он влюбился как в женщину, начали притягивать его к себе и другие соблазны мира. Раньше Башмачкин ни к кому и ни к чему не был привязан, с появлением же шинели «само существование его сделалось как-то полнее, как будто он женился, как будто какой-то другой человек присутствовал с ним, как будто он был не один, а какая-то приятная подруга жизни согласилась проходить с ним вместе жизненную дорогу, - и подруга эта была не кто другая, как шинель на толстой вате, на крепкой подкладке без износу. Он сделался как-то живее, даже тверже характером (а нужна ли ему, добавлю от себя, эта чуждая самому его имени твердость?), как человек, который уже определил и поставил себе цель. С лица и поступков исчезло самим собой сомнение, нерешительность, словом – все колеблющиеся и неопределенные черты. Огонь порою показывался в глазах его, в голове даже мелькали самые дерзкие и отважные мысли: не положить ли, точно, куницу на воротник». Рысца за ночной незнакомкой наверняка отмечена тем же огнем в глазах и дерзкими и отважными мыслями в голове. Эта дерзость не покидает его и за гробом: очевидно же, что с тяжбой о похищенной шинели, мысль о которой омрачила последние дни безмятежной жизни Башмачкина и ускорила смерть, должен он встать перед Богом, требуя справедливости.
Прочтём теперь Житие преподобного Акакия Синайского, представленное в виде рассказа Иоанна Саваита Иоанну Лествичнику, прилагая к нему собственные комментарии, приспособляемые, по возможности, к контексту гоголевской повести.
«Был один старец, очень ленивый и по характеру злой; говорю, не осуждая его, но с целью показать терпение святого, и вот что расскажу вам, - так начинается житие. Тот старец имел молодого ученика, по имени Акакий (отметим молодость Акакия Синайского, которая отнюдь не помеха его духовному росту, тогда как изрядное наличие лет Акакия Башмачкина никак ему не содействует), простого нравом и целомудренного умом, который так много зла терпел от того старца, что многим даже покажется это невероятным, ибо старец не только укорами и бесчестьем досаждал ему, но и всякий день мучил его телесными истязаниями (Башмачкин терпит гораздо меньше, почитай – ничего не терпит). Однако терпение его было не напрасно: потому что Акакий своей безропотной выносливостью и незлобивым страданием снискал себе благодать Божию, освобождающую его от вечного мучения. Я же, видя каждый день его таким, как будто он купленный раб или пленник, и терпит крайнюю беду, нарочно встречал его и спрашивал:
- Что ты, брат Акакий? Как проводишь нынешний день?
Он же отвечал:
- Как перед Господом Богом – так мне хорошо. - И показывал мне иногда посиневшие глаза, иногда шею, а то и голову в ранах. Зная, что он поступает добродетельно, я говорил ему:
- Хорошо, хорошо, терпи, брат, чтобы достигнуть спасения тебе».
Отметим, как разнятся сочувствующие интонации в Житии и в повести Гоголя; в последней, в отличии от творения Иоанна Саваита, чье сочувствие брату Акакию дополняется пожеланием ещё больших скорбей, автор разбавляет её довольно сентиментальными сентенциями в новейшем гуманистическом духе, заставляя одного из героев содрогнуться от насмешек, проделываемых сослуживцами над Башмачкиным – пускай довольно жестоких, но всё ж таки явно не дотягивающих до издевательств в духе злого старца. Что не мешает просыпанию совести в этом персонаже, и последующего возгласа автора: се, брат твой, звучащего очень даже в духе христианства, но, если пользоваться терминологией Константина Леонтьева, розового.
Вернемся к тексту Жития.
В таком положении, - пишется далее,- блаженный Акакий оставался у того строгого старца девять лет, и, проболев немного перед кончиной, отошел ко Господу. (И этого обстоятельства не упускает Гоголь, введя его в предфинальный эпизод своего повествования, но, опять-таки, сколь отличаются эти две кончины, последовавшие после быстротекущих болезней.) Когда он был погребен в семейном склепе, то, спустя пять дней, старец отправился к одному жившему там великому отцу и сказал ему:
- Отче, брат Акакий, ученик мой, умер.
Отец, услыхав это, сказал:
- Не верю тебе, старче, потому что Акакий не умер.
Старец сказал:
- Отче, если не веришь мне, то пойди сам и осмотри гроб его.
Тогда преподобный отец поспешно встал, пошел со старцем в гробницу блаженного страдальца и громко воскликнул над гробом Акакия, обращаясь к нему, как к живому:
- Брат Акакий, умер ли ты?
Благоразумный послушник, обнаруживая послушание и по смерти, ответил: - Не умер, отче, ибо тому, кто обязался творить послушание, невозможно умереть.
Этот ответ дает нам некоторое понимание явно пародийной ситуации, которая возникает с посмертным явлением Башмачкина народу. Послушания, свойственного его святому покровителю и за гробом, он лишается еще до того, как отправиться на тот свет, и параллельно обретает свойство совершенно ему противоположное, в нем и умирает, сохранив, естественно, его и в вечности. Чтобы избавиться от него, требуется даже возвращение его в покинутый им мир, где он удовлетворяет свое чувство гнева, а затем вторично отправляется в мир загробный, так и не вернув первоначального смирения. И если на такое предание себя чуждой ему страсти способен смиреннейший человек своего века, то каковы же другие люди этого века, да и сам век?
Не то в житии преподобного.
«Когда старец, у коего жил Акакий, услышал это, то испугался и упал на землю со слезами; потом попросил у игумена келию возле его гроба и, затворившись в ней, прожил еще благочестиво, заботясь о спасении души и, после многих подвигов, отошел ко Господу Богу, Которому слава во веки. Аминь».
И теперь ещё об одном существенном различии. Оно касается вразумления явившихся из-за гроба умерших Акакиев (в случае Акакия Синайского – это, собственно, не явление, живущие слышат лишь его голос) их обидчиков. Для вразумления злого старца одного голоса из-за гроба оказалось вполне достаточно для того, чтобы он покаялся и изменил и характер, и саму жизнь. В отношении же буйствующего начальника Башмачкина вразумление происходит в форме весьма брутальной, даже насильственной. Подразумевается, что только такая форма вразумления и могла повлиять хотя бы на время на его очерствевшую душу, и это дает повод для размышлений о разнице характеров человека эпохи святости, простого в восприятии как зла, так и добра и способного к их различению, и человека относительно нового времени, в душе которого эти две категории разграничены весьма слабо, а то и вовсе перепутаны до полного их не различения.
Преподобный Акакий Синайский, как было уже сказано, подобно Акакию Петербуржскому, тоже не обладал никакими особенными дарованиями. А если даже и обладал – тут же, думается, попытался бы от этих дарований, мешающих главной его добродетели, избавиться. Ибо пытающаяся смирением святость преподобного Акакия неуклонно идет вверх, пока не достигает пика в заключительном эпизоде; в случае Акакия Башмачкина та же добродетель отягчается различными бытовыми пристрастиями, пока окончательно не разоблачается к смерти – физической, которая, вместе с тем, является и духовной. При том вопрос окончательной, загробной участи этой души, изменившей своей главной добродетели, остается открытым. Достаточно того, что Гоголь наглядно демонстрирует нам, во что может превратиться человек, воспринимающий свою жизнь не как духовный подвиг, а как греющее сердце существование, бесцельное или же озаренное ложной целью. Не его одного здесь вина, поскольку находиться он в сложно сплетенных, интимно тесных взаимоотношениях с современной ему убогой жизнью, отказавшейся от высоких порывов веков, ей предшествующих, в первую очередь – религиозных. Поэтому, собственно, нет понятия у постояльцев этого века не то что о влёте в иные сферы, но даже о могущем смирить и дать правильное представление об их жизни падении.