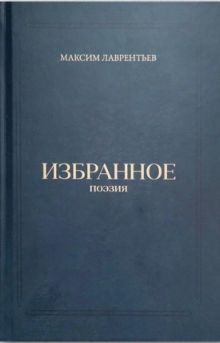Начну с банального, но верного утверждения, не требующего никаких доказательств: смерть служит итогом жизни любого человека. И продолжу утверждением менее банальным: во многих случаях она свидетельствует, насколько качественной была эта жизнь. И даже – в каком состоянии ее обладатель предстанет перед Богом в пакибытии. Больше того – она дает возможность фиксировать перемену состояния души, происходящую во время прощания с этим миром и предощущением того.
Есть у Рене Генона в одном из «Очерков о традиции и метафизике» - «Наука сакральная и наука для профанов» весьма ценное замечание.
«Пути, ведущие к высшему знанию, могут сильно отличаться друг от друга на низших уровнях реальности, но эти пути все более и более сближаются друг с другом при движении к высшим уровням.
Эта ситуация находит свое объяснение в традиционном символе «космического колеса»: окружность реальна только благодаря существованию ее центра, но существа, находящиеся на этой окружности, должны начинать с той точки, в которой они прибывают в данный момент, чтобы затем двигаться к центру по радиусу».
Понятно, что точки – это позиции, с которых начинают движение к Богу те или иные люди, радиусы – их жизненные пути, а само движение к центру определяет итог дальнейшей их судьбы: существование в Боге или не существование вне Его (другими словами – ад, в случае, если этот путь по какой-то причине не будет пройден). Существует, очевидно, также некая предназначенная этой точке идеальная форма маршрута по радиусу к центру, пролегающая сквозь пространство и время: и то, и другое четко выверено. Существуют, наверно, и множество вариантов неидеального движения, хотя тоже ведущего к Центру. При этом даже идеальная форма движения является для человека рекомендательной, побудительной, направляющей в нужную сторону, а не обязательной к исполнению, тем более – она не подразумевает никаких насильственных форм в отношении его личности. Четко выверены и начальные местоположения точки на радиусе, с которого должен начаться путь к центру: одни находятся от него очень далеко, другие – совсем близко, что отнюдь не значит, что начавший движение от второй придет к конечной цели позже того, кто начал ее от первой. Но здесь возникает еще один вопрос: может ли какая-то из точек свой путь так и не начать, оставшись в изначальном положении? А ведь наверняка может – не по Божьему произволению, конечно, но по собственному своеволию.
Стоит задуматься, что станет происходить с ней в этом случае. В связи с этим можно представить два, по меньшей мере, варианта.
Первый. При остановке движения может начаться откат в обратную от центра сторону. Поскольку движения к центру нет и не предвидится, а стояние в изначальной позиции вступает в противоречие с движением, которым вообще отличается жизнь, то, скорее всего, движение в обратную сторону будет происходить до тех пор, пока движение не выйдет за окружность сферы, т.е. – окажется за границей жизни. Другими словами – в небытии. А следовательно – вне Бога.
Второй. Поскольку жизнь вне движения невозможна, это движение станет происходить исключительно внутри оставшейся в изначальном положении души: душа начнет уничтожать саму себя посредством поедания, так сказать, своего внутреннего пространства за счет собственной отрицательной энергетики – до полного его исчезновения. Вместе с ней, очевидно, подвергнется аннигиляции радиус, по которому она двигалась, поскольку он станет лишним в модели мироздания, которую мы рассматриваем, сознательно упустив пока важнейший момент, ради которого, собственно, и пишется этот текст.
Все предыдущие призвано было, во-первых, еще раз напомнить об отсутствии вины Бога в судьбе человека, которую тот, игнорируя Его указания, выбирает себе сам. И во-вторых – о влиянии пути одного человека на путь другого.
Православные отцы, учение которых тоже учитывает те моменты, о которых мы говорим, в отличие от восточных представлений космического колеса или Генона, имеют ввиду также важнейшее для духовного опыта любого человека положение, которое в полной мере не учитывают ни брахманы, ни Генон (зато апелляция к нему есть у несомненно изучавшего творения христианских святых Блеза Паскаля). А именно – любовь: Бога к людям и озаренная светом этой высшей любви любовь людей друг к другу. Ибо не только душа человека жаждет Бога, но и Бог жаждет слиться с душой человека, поэтому Он постоянно устремлен навстречу каждому из нас. Божья любовь может передаваться и непрямо– в случае, если человек не способен ее воспринять – через других людей. Недаром же чем ближе продвигается душа человека к центру мироздания, тем плотнее она сближается с душами людей, продвигающимся по соседним радиусам в том же направлении. Но и далеко отставший от ведущего посредством этой любви может вдохновляться его примером, что тоже определяет, и даже в значительной степени, судьбу и того, и другого (этот пример может вдохновить и утешить в движении по такому пути крайне нерадивых в духовном делании людей вроде меня).
Примерно такая ситуация описывается в одном из произведений Александра Введенского, где главными героями выступают Пушкин и сам Введенский, причем Пушкин – в роли ведущего, а Введенский – в роли ведомого.
Обстоятельства смерти Пушкина общеизвестны. А вот поэт Введенский умер, точнее – погиб, в возрасте Пушкина в неизвестном месте и при до сих пор не проясненных обстоятельствах. Точная дата его кончины тоже неизвестна, хотя таковой с некоторых пор принято считать 19 декабря 1941 года. Примерно за полгода до этого он заканчивает «Где. Когда» - последнее свое произведение, в котором размышляет о смерти как окончательной данности, причем смерти собственной. В нем он единственный раз за всю свою творческую деятельность приоткрывается в личностно, тогда как до него, в предшествующих произведениях, за исключением разве что «Ковра Гортензии», эта личность была тщательно скрыта. Но даже и здесь приоткрывается не прямо, но опосредованно, через доверенное, так сказать, лицо, в качестве которого выступает ни кто иной, как Пушкин, через весь текст проходящий, как сквозной персонаж и ведущий за собой, как Вергилий Данте, автора-повествователя, стоящего на границе существования и не существования. Так что, может статься, не Введенский является главным героем попутно сочиняющегося произведения, но сам Пушкин.
Почему именно Пушкин? Не только потому, что Введенский погиб в возрасте Пушкина, и не только потому, что Пушкин всю жизнь был негаснущим маяком, на свет которого всю жизнь ориентировалась причудливо дрейфующая ладья судьбы Введенского; но и потому, что тема, которую поднимает Введенский, для солнца русской поэзии была не менее, если не более важна, чем для его младшего собрата. В этом мы можем убедиться, перечитав пушкинские стихи.
И Пушкин, и Введенский под конец жизни к смерти были готовы. О готовности Введенского можно судить пускай и по одному, но зато в полноте итожащему его жизнь и творчество произведению «Где. Когда.» У Пушкина же – сразу по нескольким, и тоже написанным в самом конце жизни, хотя и раньше тема кончины, и кончины именно в христианском духе с самого начала периода зрелого творчества проходит красной нитью уже до самого конца – иногда потаенно, но чаще выражается весьма недвусмысленно. В особенности просматривается эта нить в его последних произведениях. И везде личность Пушкина явственно мерцает сквозь текст.
Не то у Введенского, у которого даже в «Где. Когда» тема смерти репродуцируется через персонажа, за которым стоит не столько он сам, сколько Пушкин. Если быть точным, то, конечно, за ним стоят они оба – наложившиеся друг на друга, но не слившиеся: Пушкин существует сам по себе, а Введенский выражает себя почти исключительно через него, притом тоже в изрядной степени законспирированного.
Пушкин прощается с миром, подобно тому, что он бы не делал, светло, в его прощании нет трагизма. Мир отходит в прошлое, тем не менее дистанции между им самим и его героем у него нет, герой в этот мир вписан. Иной вариант прощания у Введенского, у которого показ все увеличивающейся дистанции между отходящим в прошлое миром и уходящим от него героем является главной целью. Описание нельзя сказать, чтобы трагическое, но все же… Впрочем, можно сказать, что и трагическое.
Что, собственно, описывает он в своей предсмертной поэме? Он проводит Пушкина в качестве сквозного персонажа; Пушкин ведет его за собой и даже намечает этим путем другую, еще не ведомую им обоим реальность. Может быть, в отличие от расклада, разработанного великим флорентийским изгнанником, совсем не Введенский-Данте, а Вергилий-Пушкин является главным героем этой новой Божественной комедии. И, что самое главное, является проводником Введенского не в ад, не в рай, но в некую преисподнюю.
Уже самые первые строки поэмы представляют апелляцию к пушкинскому «Памятнику». Далее – еще к нескольким произведениям: «Что в имени тебе моем…», «Когда на кладбище задумчив я брожу…», «Вновь я посетил…» В первом Пушкин большей частью размышляет о своей посмертной славе, во втором, напрочь отказываясь от нее, встраивает себя в длинный ряд ничем не отличившимся в земной жизни людей, в третьем – в длинный ряд родственников.
«Я памятник воздвиг себе нерукотворный» - пишет Пушкин в известном всем стихотворении. Этот памятник, похоже, и является Введенскому. Но тогда: чья, собственно, смерть описывается? Введенского? Может быть. Но, может быть, все же Пушкина. И что же, содействует этот новый памятник хоть в какой-то мере обретению бессмертия? Согласно Введенскому – ни в малейшей степени, ибо памятник столь же недолговечен, как и тело его прототипа. О чем, кстати, пишет и Пушкин в упомянутом «Что в имени тебе моем…»
Эпиграфом к описываемому в «Где. Когда» можно поставить строки Пушкина из большого стихотворного фрагмента «Вновь я посетил…»
Переменился я — но здесь опять
Минувшее меня объемлет живо,
И, кажется, вечор еще бродил
Я в этих рощах…
Предсмертных, можно было бы добавить, учитывая наш контекст.
В поэме Введенского первая строка звучит так:
Где он стоял прислонившись к статуе.
Здесь под статуей может подразумеваться как памятник из одноименного стихотворения, так и статуи Царскосельского сада, упоминаемые в пушкинском стихотворном фрагменте «В начале жизни школу помню я…» Далее: С лицом переполненным думами. Он стоял. Он сам обращался в статую. Он крови не имел. – И здесь может быть посыл к памятнику Пушкина. Или же – к Пушкину, изображенному на картине одного из многих художников, воспринимающих и пишущих Пушкина по принятому шаблону: крестообразные руки на груди, устремленный вдаль взгляд. А вот далее – реминисценции лицейского пушкинского стихотворения, автором которого выступает, ввиду значительного изменения Пушкинского текста, естественно, уже не он сам, но лирический герой Введенского. Вначале:
«Зрите он вот что сказал» (опять, заметим, не я, а он). Далее:
Прощайте темные деревья,
прощайте черные леса,
небесных звезд круговращенье,
и птиц беспечных голоса.
Здесь и позже - уже самый прямой посыл к лицейскому отрывку Пушкина:
Простите, верные дубравы!
Прости, беспечный мир полей,
И легкокрылые забавы
Столь быстро улетевших дней!
Прости, Тригорское, где радость
Меня встречала столько раз!
На то ль узнал я вашу сладость,
Чтоб навсегда покинуть вас?
От вас беру воспоминанье,
А сердце оставляю вам.
Быть может (сладкое мечтанье!),
Я к вашим возвращусь полям,
Приду под липовые своды,
На скат тригорского холма,
Поклонник дружеской свободы,
Веселья, граций и ума.
Еще далее – развитие этой же темы в интерпретации Введенского – и с его точки зрения:
Он должно быть вздумал куда-нибудь когда-нибудь уезжать.
Скорее всего – на тот свет, поэтому этот, оставляемый свет воспринимается уже с некой дистанции. И в дальнейшем дистанция все более увеличивается:
Прощайте скалы полевые,
я вас часами наблюдал.
Прощайте бабочки живые,
я с вами вместе голодал.
Прощайте камни, прощайте тучи,
я вас любил и я вас мучил.
[Он] с тоской и с запоздалым раскаяньем начал рассматривать концы трав.
Прощайте славные концы.
Прощай цветок. Прощай вода.
Бегут почтовые гонцы,
бежит судьба, бежит беда.
Я в поле пленником ходил,
я обнимал в лесу тропу,
я рыбу по утрам будил,
дубов распугивал толпу,
дубов гробовый видел дом
и песню вел вокруг с трудом.
Здесь, возможно, отсылка к целому ряду поздних стихотворений Пушкина: «Когда на кладбище задумчив я брожу…», «Вновь я посетил…» и даже «Пора мой друг, пора…» А вот дальше функция героя переходит, похоже, опять к Пушкину периода «Прощай, свободная стихия…», запечатленному на картине Айвазовского.
…здесь он прикидывает в уме, что было бы если бы он увидал и море.
Море прощай. Прощай песок.
О горный край как ты высок.
Пусть волны бьют. Пусть брызжет пена,
на камне я сижу, все с д[удко]й,
а море плещет постепе[нно].
И всё на море далеко.
И всё от моря далеко.
Бежит забота скучной [ш]уткой
Расстаться с морем нелегко.
Море прощай. Прощай рай.
О как ты высок горный край.
Горный край может быть отраженным воспоминанием о стихотворении Пушкина «Монастырь на Казбеке», а несколько позже попрощавшийся с миром природы герой оказывается лежащим на более локализованном клочке пространства, а именно - на берегу реки. Это – весьма величественная река.
Река властно бежавшая по земле. Река властно текущая. Река властно несущая свои волны. Река как царь. Она прощалась так, что. Вот так. А он лежал как тетрадка на самом ее берегу.
Тетрадь присутствует и в одном из стихотворных фрагментов, сочиненных Введенским во время тюремного заключения, и обозначает, очевидно, перелистываемые события жизни. И, может быть, это еще один посыл к Пушкину: «И с отвращением читая мою…» и т.д.
Прощай тетрадь.
Неприятно и нелегко умирать.
Прощай мир. Прощай рай.
Ты очень далек человеческий край.
Что сделает он реке? — Ничего — он каменеет.
И море ослабевшее от своих долгих бурь с сожалением созерцало смерть. Имело ли это море слабый вид орла (т.е. согласно с поэтикой Введенского – Божественного вестника).— Нет оно его не имело.
Взглянет ли он на море? — Нет он не может. Но — чу! вдруг затрубили где-то — не то дикари не то нет. Он взглянул на людей.
Здесь заканчивается первая часть. А почти что в начале второй Пушкин появляется уже непосредственно, собственной персоной, так сказать.
Когда он приотворил распухшие свои глаза, он глаза свои приоткрыл. Он припомнил всё как есть наизусть. Я забыл попрощаться с прочим, т. е. он забыл попрощаться с прочим. Тут он вспомнил, он припомнил весь миг своей смерти. Все эти шестерки, пятерки. Всю ту — суету.
Опять таки: кто припомнил: Пушкин или Введенский. Показательно, однако, что в последний миг смерти герою вспоминаются карточные фигуры, отнесенные к разряду пустяков, к которым относится и далее упомянутая в том же контексте поэзия: Всю рифму. Которая была ему верная подруга, как сказал до него Пушкин. Отметим, что и само появление Пушкина ознаменовано категорией отвращения – в числе многого, если не всего, чем ознаменовано былое самого автора. Ах Пушкин, Пушкин, тот самый Пушкин, который жил до него. Тут тень всеобщего отвращения лежала на всем. Тут тень всеобщего лежала на всем. Тут тень лежала на всем. Он ничего не понял, но он воздержался. И дикари, а может и но дикари, с плачем похожим на шелест дубов, на жужжанье пчел, на плеск волн, на молчанье камней и на вид пустыни, держа тарелки над головами, вышли и неторопливо спустились с вершин на немногочисленную землю. Ах Пушкин. Пушкин.
В виде дикарей здесь могут быть явлены потомки, утратившие представление и связь как с Введенским, так и с Пушкиным, равно как и о самом земном мире, потерявшим всякую связь с вышним (умолчим уж о связи с культурой). Финальное «все» в виде фирменного знака, которым оканчиваются большинство произведений Введенского звучит здесь особенно веско, безнадежно, выполняя функции крышки захлопнувшегося гроба. Это действительно – все. И для него самого, и для Пушкина, и для оскудевшего мира.
Самому Пушкину виделся вариант иной смерти, более светлый утешительный. У него в переложении фрагмента из пьесы Роберта Саути «Родриг» тоже есть проводник для путешествия в мир иной, который является герою во сне с благовестительными целями.
Чудный сон мне Бог послал —
С длинной белой бородою
В белой ризе предо мною
Старец некий предстоял
И меня благословлял.
Он сказал мне: «Будь покоен,
Скоро, скоро удостоен
Будешь царствия небес.
Скоро странствию земному
Твоему придёт конец.
Уж готовит ангел смерти
Для тебя святой венец…
Путник — ляжешь на ночлеге,
В гавань, плаватель, войдёшь.
Бедный пахарь утомлённый,
Отрешишь волов от плуга
На последней борозде.
Ныне грешник тот великий,
О котором предвещанье
Слышал ты давно —
Грешник жданный
Наконец к тебе приидет
Исповедовать себя,
И получит разрешенье,
И заснёшь ты вечным сном».
Сон отрадный, благовещный —
Сердце жадное не смеет
И поверить и не верить.
Ах, ужели в самом деле
Близок я к моей кончине?
И страшуся и надеюсь,
Казни вечныя страшуся,
Милосердия надеюсь:
Успокой меня, Творец.
Но Твоя да будет воля,
Не моя. — Кто там идёт?..
Сходным проводником-старцем воспринимается Введенским Пушкин: он тоже является Введенскому в последние минуты его жизни, чтобы уподобиться в некоторой степени духовнику, принимающему у него последнюю исповедь. Но, в отличие от героя Пушкина, ничего не предсказывающему и не обещающему. О таком исходе жизни, как у Пушкина Введенский не мог, конечно, и мечтать. Он и не мечтает. Что видно, в особенности, как раз в «Где. Когда.», где описывается видение жизни, вплотную приблизившейся к границе смерти, а во второй половине текста даже переступившей ее – почти как у Пушкина в его «Памятнике».
Таким памятником во многих смыслах и предстает в «Где. Когда» Пушкин. Или же, все таки, не Пушкин, а сам Введенский, укрывшийся в его тени? Ведь образ главного героя двоится, перетекает от предполагаемой личности Введенского к личности Пушкина – и обратно. При том, что две эти ипостаси не смешиваются: в отличие от Пушкина, Введенский, например, совершенно лишен причастности к весьма существенному для любого человека ряду – семейному, патриархальному. Не потомки, не предки - один Пушкин сопровождает его на этом свете, и он же, тоже один, ждет его на том. Какой контраст, все таки, с Пушкиным, постоянно окруженным не только друзьями, но и милыми ему, случайно или не случайно встречавшимися на его жизненном поприще людьми.
В стихотворении «Вновь я посетил…» Пушкиным тоже ведь предпринимался своеобразный обзор значительных событий собственной жизни посредством описания пейзажей родового поместья, где протекали годы ссылки, весьма посодействовавших превращению ветреного юноши в зрелого мужа.
Минувшее меня объемлет живо, - говорит там Пушкин, и эту живость подтверждает дальнейшими строками, по настроению весьма близкими к прощальным строкам Введенского в «Где. Когда»; а когда доходишь до строк:
вдали
Стоит один угрюмый их товарищ,
Как старый холостяк, и вкруг него
По-прежнему всё пусто,
- то кажется, что эта одинокая, маячащая в пустоте фигура – это герой «Где. Когда»…
Стоит вспомнить и то, как заканчивается этот пушкинский фрагмент:
Здравствуй, племя
Младое, незнакомое! не я
Увижу твой могучий поздний возраст,
Когда перерастешь моих знакомцев
И старую главу их заслонишь
От глаз прохожего. Но пусть мой внук
Услышит ваш приветный шум, когда,
С приятельской беседы возвращаясь,
Веселых и приятных мыслей полон,
Пройдет он мимо вас во мраке ночи
И обо мне вспомянет.
Пушкин, во время писания своего стихотворения пребывая одновременно в настоящем и прошлым, вписывает себя еще и в будущее. Введенский решительно отделяет себя от него, его взор направлен исключительно в прошлое, одна только статуя Пушкина становится единственным маяком в исчезающем пространстве и времени. Хотелось бы сказать – незыблемым, но – как раз зыблемым, исчезающим. Отсюда и горький вздох: ах Пушкин, Пушкин. После чего возникает тень отвращения, покрывающая все и вся.
Подобное отвращение присутствует и у Пушкина:
Когда за городом, задумчив, я брожу
И на публичное кладбище захожу…
«…»
Такие смутные мне мысли всё наводит,
Что злое на меня уныние находит.
Хоть плюнуть да бежать...
Бежать, понятно, некуда, кроме как на тот свет. Но отсутствующее у Пушкина и осуществленное некуда присутствует в поэме Введенского, который поэтому и не предпринимает никаких попыток бегства, бесконечно пребывая на границе, которую так и не может переступить, обращенный лицом в сторону уже не существующего былого, а спиной – к лишенному каких либо примет и всяких надежд будущему.
У Пушкина основа памятника, который он сам себе возводит – душа, проходящая ряд эволюций во времени и пространстве, утверждающая себя за счет родовых и даже народных категорий, перерастающая их и переходящая на стадию общемирового бытия посредством поэзии. Устремленность, естественно – в будущее, а то и в бессмертие. Между тем как бессмертия для Введенского, похоже, вообще не существует. Точнее, оно никак не наступает, раз и навсегда приобретя вид дурной и муторной тягомотной бесконечности: «Когда он глаза свои приоткрыл» и т. д.
В этой бесконечности, повторимся, статуя Пушкина видится Введенскому единственным ориентиром. Но – до поры. Пушкин в виде статуи был для повествователя кумиром, который далее в меркнущем сознании постепенно перестает быть таковым. Между тем как памятник Пушкину для самого Пушкина кумиром не является – но зато таким кумиром является для него поэзия, посредством которой он надеется остаться в памяти народов. Введенский же, пребывающий в одиночку на выжженной, пустынной территории вне мира, вне людей не надеется ни на что. В том числе – и на поэзию. Но хочется надеяться, что именно в «Где. Когда» Введенский, единственный раз оставив свой иррациональный метод постижения иррациональной действительности и воспользовавшись пушкинским методом понимания, наиболее полно выраженным в строках «Я понять тебя хочу/Смысла я в тебе ищу», этот смысл, а заодно и спокойствии обретает, наконец, в своем мятущемся сознании. Недаром в этом произведении в единственный раз за все его творчество звучит молитва ко Господу о помиловании.