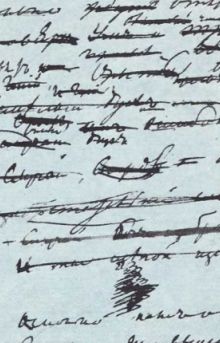Островского принято считать певцом купеческого быта. А ведь этой стороной его творчество не исчерпывается: он, не забудем, автор написанной отменными стихами поэтичнейшей «Снегурочки», а также пяти трагедий, отмеченных основательным осмыслением ключевых событий русской истории, тоже стихотворных. Но и в его прозаических драмах присутствуют выходы из бытовых пределов в области что ни на есть иррациональные, чтоб не сказать - инфернальные. И – сочетание с этими сферами своенравного, не хотящего знать в своих неопределенных устремлениях удержу духа русского человека. Пример - самая известная из его пьес.
В весьма многих головах со школьных лет засело броское определение мира, изображенного Островским в «Грозе», данное тенденциозно-либеральным, а посему не самым проницательным критиком Добролюбовым: тёмное царство. Это тёмное царство очень наглядно в старом фильме режиссера Владимира Петрова, который не мудрствуя лукаво, с наивным и искренним доверием к постулатам Добролюбова, довольно талантливо перевел их уже в самой первой сцене в весьма впечатляющий кинематографический ряд. Получилось весомо, грубо, зримо – но без всякой связи с тем, как это было дано у Островского.
Царство, в котором главным слагаемым является не духовное постижение мира, а чувственное, можно было бы скорее назвать женским. Не трудно подсчитать, сколько места в тексте пьесы занимают сцены с участием женских персонажей с относительно редко участвующих в действии персонажей-мужчин. Не социальными и не патриархальными, а чисто женскими эмоциональными движениями определены, к примеру, мелочные придирки Кабанихи – и к сыну, и, в особенности, к невестке.
Кабанова. Грех. Я уж давно вижу, что тебе жена милее матери. С тех пор, как женился, я уж от тебя прежней любви не вижу.
Кабанов. В чем же вы, маменька, это видите?
Кабанова. Да во всем, мой друг. Мать чего глазами не увидит, так у нее сердце вещун, она сердцем может чувствовать. Аль жена тебя, что ли, отводит от меня, уж не знаю.
Кабанов. Да нет, маменька! Что вы, помилуйте!
Кабанова. Да полно, перестань, пожалуйста. Может быть, ты и любил мать, пока был холостой. До меня ли тебе, у тебя жена молодая.
Кабанов. Одно другому не мешает-с: жена само по себе – а к родительнице я само собой почтение имею.
Кабанова. Так променяешь ты жену на мать? Ни в жизнь этому не поверю.
Кабанов. Да для чего же мне менять-то? Я обеих люблю.
Кабанова. Ну, так и есть, размазывай! Уж я вижу, что я вам помеха.
Далее – в том же духе. Всё – на эмоциях. Такое впечатление, что своевольная и, как это не странно, в своем роде чувственная Кабаниха, начав свои обличения, уже не может остановиться. Не знающим удержу чувственным своеволием отмечена и её дочь Варвара.
А вот своеволие главной героини поначалу скрыто. Впрямую оно приоткрывается в разговоре с Варварой в начале второго действия, когда признается во влюбленности в Бориса. Катерина, по её собственным словам, этой любви не рада и хотела бы избавиться от мыслей о возлюбленном. И, тем не менее, она не только не останавливает Варвару, заметившую это её влечение, но и поощряет назвать сначала имя ее избранника, затем подробно говорить о его ответном чувстве, а затем принимает и намек о возможности свидания, о чем Островский очень тонко дает возможность догадаться об этом читателю и зрителю оговоркой стыдливо, будем надеяться, потупившейся Катерины: «где же видеться?» И только после этого: «да и зачем?» Удивительно ли, что при таком потакании зародившегося однажды внутри души помысла, далее он развивается уже сам по себе и пошедшая у него на поводу Катерина уже не властна ни над своими мыслями, ни над чувствами, ни над самой собой, в чем сама и признается: «разве я хочу о нем думать; да что делать, коли с головы не идет». Более того – в дело теперь вмешивается тот, кто охоч распалять подобные человеческие помыслы, представляя их в чувственном виде и которого Катерина называет по имени: «Знаешь ли, меня нынче ночью опять враг смущал. Чуть было из дому не ушла». Дальше – самое главное: «Что мне только захочется, то и сделаю. Что хочу, то сделаю, уйду, не удержат меня никакой силой… А что мне! Я уйду, да и была такова…Эх, Варя, не знаешь ты моего характеру! Конечно, не дай Бог этому случиться! А уж коли очень мне здесь опостынет, так не удержат меня никакой силой. В окно выброшусь, в Волгу кинусь. Не хочу здесь жить, так не стану, хоть ты меня режь!».
Катерина – вообще едва ли не самое глубокое видение Островским русской женщины, находящейся в состоянии чувственной прелести. Представление о начальных ее признаках, дополненных весьма своеобразной религиозной экзальтированностью, которая, кстати, не остается незамеченной людьми из окружения Катерины, читатель может получить уже из первых монологов Катерины. Например – в сцене с Варварой (явление седьмое первого действия), где она сравнивает свою жизнь в девичестве и в замужестве.
«И до смерти я любила в церковь ходить! Точно, бывало, в рай войду и не вижу никого, и время не помню, и не слышу, когда служба кончится. Точно, как все это в одну секунду было. Маменька говорила, что все, бывало, смотрят на меня, что со мной делается! А знаешь: в солнечный день, из купола такой светлый столб дыма идет, и в этом столпе ходит дым, точно облака, и вижу я, бывало, будто ангелы в этом столбе летают и поют. А то, бывало, девушка, ночью встану, - у нас тоже везде лампадки горели, - да где-нибудь в уголке и молюсь до утра. Или рано утором в сад уйду, ещё только солнышко восходит, упаду на колена, молюсь и плачу, и сама не знаю, о чем молюсь и о чем плачу; так меня и найдут. И об чем молилась тогда, чего просила – не знаю; ничего мне не надобно, всего у меня было довольно. А какие сны мне снились, Варенька, какие сны! Или храмы золотые, или сады какие-то необыкновенные, и все поют невидимые голоса и кипарисом пахнет, и горы, и деревья, и деревья будто не такие, как обыкновенно, а как на образах пишутся. А то, будто я летаю, так и летаю по воздуху. И теперь иногда снится, да редко, да и не то.
Варвара. А что же?
Катерина. Я умру скоро. Ох, девушка, что-то со мной недоброе делается, чудо какое-то! Никогда со мною этого не было. Что-то во мне такое необыкновенное. Точно я снова жить начинаю, или…уж и не знаю.
Варвара. Что же с тобой такое?
Катерина (берет её за руку). А вот что, Варя, быть греху какому-нибудь! Такой на меня страх, такой на меня страх! Точно я стою над пропастью и кто-то меня туда толкает, а удержаться мне не за что».
Очень важна здесь последняя фраза: кто-то меня толкает в пропасть, а удержатся не за что. Не за что, несмотря на молитвы, которым, как мы тоже далее узнаем, Катерина предается в минуты сильного ужаса, вызываемого вынесенной в название и дважды разражающейся на протяжении действия грозой, а она в различных контекстах пьесы имеет всегда одно и то же символическое значение - Божьего гнева, настигающего грешников. Об этом – в конце второго действия, где впервые появляется очень интересное лицо – старая Барыня, чьи речи, совокупно с грозой, ещё более усиливают страх Катерины. Эти сцены я приведу немного позже, а сейчас продолжу прерванную цитату, где из последующих речей Катерины видно, что именно стоит за её молитвами и что примешивается к ним. Более того – здесь Катерина впрямую называет того, кто внушает ей истомившие её саму состояния, правда, чисто машинально, так как далее она признается, что не понимает, к чему все то, что уже давно и неотступно живет в ней и с чем она сроднилась:
Катерина. Лезет мне в голову мечта какая-то. И никуда я от неё не уйду. Думать стану – мыслей никаких не соберу, молиться – не отмолюсь никак. Языком лепечу слова, а на уме совсем не то: точно мне лукавый в ухо шепчет, да все про такие дела нехорошие. И то мне представляется, что мне самое себя стыдно делается. Ночью, Варя, не спится мне, все мерещится шепот какой-то: кто-то так ласково говорит со мной, точно голубь воркует. Уже не снятся мне Варя, как прежде, райские деревья да горы, а точно кто-то меня обнимает так горячо-горячо, и ведет меня куда-то, а я иду за ним, иду…сделается мне так душно, так душно дома, что бежала бы. И такая мысль придет на меня, что, кабы моя воля, каталась бы я теперь по Волге, на лодке, с песнями, либо на тройке на хорошей, обнявшись…
Варвара. Только не с мужем.
Катерина. А ты откуда знаешь?
Далее идут уговоры Варвары, называя вещи своими именами, в отсутствие мужа обзавестись любовником (грязные уже сами по себе, но ещё и усугубленные тем, что Варвара является родной сестрой мужа Катерины, на измену которому она её подбивает), и колебания Катерины между желанием греха и страхом перед Богом. В этом месте и появляется, пока ещё на мгновение, упомянутая барыня с грозными обличениями, сопровождаемыми раскатами грома приближающейся грозы, которые приводят в изрядный ужас Катерину:
Барыня. Что, красавицы? Что тут делаете? Молодцов поджидаете, кавалеров? Вам весело? Весело? Красота-то ваша вас радует? Вот красота-то куда ведет. (Показывает на Волгу). Вот, вот, в самый омут.
Варвара улыбается.
Что смеетесь? Не радуйтесь! (Стучит палкой). Все в огне гореть будете неугасимом. Все в смоле кипеть будете неутолимой. (Уходя). Вон, вон, куда красота-то ведет. (Уходит).
Обличения Барыни, которые в изрядной степени отрезвляют Катерину, вполне обоснованы, особенно их заслуживает иронически ухмыляющаяся на них Варвара, полностью утратившая какие бы то ни было нравственные ориентиры, что заставляет усомниться и о наличии таковых у её грозной и блюдущей традиции матери. Заканчивается сцена, а с нею и первое действие словами Катерины: «Всякий должен боятся. Не то страшно, что убьет тебя, а то, что смерть тебя вдруг настигнет, как ты есть, со всеми твоими грехами, со всеми помыслами лукавыми. Мне умереть не страшно, а как подумаю, что вот я вдруг явлюсь перед Богом, такая, какая я здесь с тобой, после этого разговора – вот что страшно. Что у меня на уме-то! Страшно вымолвить!»
Здесь речь Катерины прерывается ударом грома.
На протяжении всей пьесы этот гром ощутим. Сквозь все действие проходит отчетливый треск, в том числе и ищущих выхода электрических зарядов (мотив грозы и связанный с этим понятием мотив электричества пунктиром проходят через всю пьесу). Треск этот сопровождается вестями о конце света – ломается, как никак, русское сознание, доселе определявшее ход русской жизни и задававшее ей совершенно определенное направление. Понятна поэтому тревожное состояние персонажей: веру в Бога подрывают новейшие достижения науки, богоустановленная нравственность уступает дорогу ренессансному безудержному разгулу чувств, и все это существует параллельно с непрестанно поступающими откуда-то вестями о конце света. Понятна в этом смысле и томность, неопределенность психологической атмосферы «Грозы», равно как и взгляд на подвергающийся духовной переформировке мир, вернее, пропуск этого взгляда через женское сознание, оказавшегося на неком перепутье в силу одинакового тяготения и к цельности, и к распаду. Ведь и впечатлительная, несколько выделяющаяся из окружающей среды Катерина живет в этом, а не в каком-то другом мире, и все далее отделяющиеся друг от друга и не могущие соединиться в одно целое края треснувшей надвое русской жизни не могут своеобразно не преломляться в её неглубоком сознании.
Заметим, что и само название пьесы – слово женского рода. Наиболее же употребительное слово в этой пьесе – грех, причем употребляется оно в разнообразнейших – от трагического до явно иронического – контекстах. Грех Катерины вписывается в этом смысле в неоднократно повторяемое понятие последние времена, признаки которых ведь и вправду выползают на поверхность в практически любую, в особенности же переходную эпоху. Посему «Гроза» это не просто бытовая драма, это драма религиозная, почти трагедия, главный пунктир которой – поэтапное отпадение главной героини от Бога вследствие искажения своих религиозных потенций, которые живут в ней до последней минуты её жизни; а частная драма Катерины – это драма неглубоко чувствующего, подверженного быстрой смене впечатлений, да к тому же и крайне своевольного, даже не вполне нормального в своих устремлениях человека, находящего радость в неправильно осмысленных жизненных обстоятельствах. Всё это сопровождается, помимо опасений вообще-то чисто житейского порядка, ещё и страхом Божьим, беспечно загоняемым вовнутрь, но после грехопадения ищущим себе выхода, а после второй встречи с барыней все-таки вырывающимся наружу.
Катерина. Ах! Умираю!
Варвара. Что ты мучаешься-то, в самом деле! Стань в сторонке да помолись: легче будет.
Катерина (подходит к стене и опускается на колени, потом быстро вскакивает). Ад! Ад! Ад! Гиена огненная!
Кабанов, Кабанова и Варвара окружают её.
Всё сердце изорвалось! Не могу я больше терпеть! Матушка! Тихон! Грешна я перед Богом и перед вами! Не я ли клялась тебе, что не взгляну ни на кого без тебя! Помнишь, помнишь! А знаешь ли, что я, беспутная, без тебя делала! В первую же ночь я ушла из дому… И все-то десять ночей я гуляла….
Теперь, сделав безпокаянное признание в грехе, Катерина вроде бы избавляется от беса любовного томления, но зато вместо него в нее вселяется гораздо более сильный и сменивший тактику бес уныния, навевающий на нее страхования и одновременно нашептывающий мрачные мысли, в том числе и о смерти, а затем и о самоубийстве. Присовокупим сюда и внушаемое им отвращение ко всему живому, о чем тоже говорит Катерина во втором явлении последнего действия:
«Не помню, все забыла. Ночи, ночи мне тяжелы! Все пойдут спать, и я пойду; всем ничего, а мне как в могилу. Так страшно в потемках! Шум какой-то сделается, и поют, точно кого хоронят; только так тихо, чуть слышно, далеко, далеко от меня… Да уж измучилась я! Долго ль еще мне мучиться? Для чего мне теперь жить, ну, для чего? Ничего мне не надо, ничего мне не мило, и свет Божий не мил! – а смерть не приходит. Ты её кличешь, а она не приходит. Что не увижу, что не услышу, только здесь (показывает на сердце) больно. Если бы с ним жить, может быть, радость бы какую я видела…Что ж: уж все равно, душу свою я ведь погубила. Батюшки, скучно мне, скучно».
И – немного далее, в Четвёртом явлении:
«Куда теперь? Домой идти? Нет, мне что домой, что в могилу – все равно. Да, что домой, что в могилу!.. что в могилу! В могиле лучше… Мне как будто легче! А о жизни думать не хочется. Опять жить? Нет, нет, не надо… нехорошо! И люди мне противны, и дом мне противен, и стены противны! Не пойду туда. Нет, нет, не пойду! Придешь к ним, они ходят, говорят, а на что мне это! Ах, темно стало! И опять поют где-то! Что поют? Не разберешь… Умереть бы теперь…Что поют? Все равно, что смерть придет, что сама… а жить нельзя! Грех! Молиться не будут? Кто любит, тот будет молиться…»
Очевидно самообольщение, к которому была всегда склонна Катерина, не покидает её даже перед самоубийством, и проистекает оно из вообще-то обычной для всех самоубийц своевольной логики: все равно прав я, а не все остальные, так пусть пожалеют о том, что меня нет.
Все эти искушения в мужском, так сказать, варианте Островский раннее опробовал в имеющей ряд пересечений с «Грозой» более ранней драме «Не так живи, как хочется», действие которой отнесено к концу XVII века.
Довольно зловещую атмосферу этой странной пьесы, начинающуюся словами: «чует моё сердце...не добро оно чует! Знать уж Бог отступился от нас, глядючи на наше непутное житье. За грех какой-нибудь наказанье этакое Петру Ильичу, да за наше неумоление» определяет в первую очередь срыв ни с того ни с сего, буквально на ровном месте главного персонажа, ибо жизнь его до времени начала пьесы протекала, как мы узнаем из речей различных свидетелей, довольно безмятежно. Странна поэтому и внезапно охватившая его тоска, и, как её следствие – беспробудное пьянство и буйство, которое не покидает его теперь буквально ни на одну минуту. Сходные состояние испытывали, наверное, на какое-то короткое время, многие из нас, но только Петр (так зовут героя) доводит эти состояния до края и в результате теряет всякий контроль и над своими поступками, и над своими мыслями, его душа становится безропотным вместилищем инфернальных сил, поведение его становиться иррациональным и непредсказуемым – до того, что ни его близкие, ни он сам не могут даже предположить, что выкинет он в ту или иную минуту.
Уже сам строй речи его производит впечатление не совсем натуральное, имея вид некой принужденности, которую он не может сознавать. Но главной своей цели Островский достигает в показе ужаса героя, несущего тяжесть этой принужденности, выразившейся в отказе от самого себя – такого, каким был раньше. Этим ужасом пронизаны даже те сцены, которую должны были бы дать какую-то передышку, например, объяснения Петра в любви юной девушке, которой он отдал предпочтение перед без всяких причин оставленной молодой женой, с которой прожил всего лишь около года. Но и ей он уже сейчас адресует те же упреки, которыми изводил и жену.
Петр. Уж очень я тебя люблю. Надоть так думать, ты меня приворожила чем ни на есть!
Груша. Что ты! Господь с тобой!
Петр. Возьми ты вострый нож, зарежь меня, легче мне будет.
Груша. Что с тобой сделалось?
Петр. Несчастный я человек! Ничего не пойму, ничего не соображу. Голова моя кругом пошла! Ровно туману кто напустил на меня!
Все перечисленные обстоятельства на протяжении трёх актов представлены на сцене и составляют её сюжет. Но только одно, оставшееся вне её, объясняет отдаленную временем возможную причину неурядиц, которые чередой проходят перед глазами зрителя. Оказывается демоны, мучащие героя, подступили или даже вошли в него в тот момент, когда он без благословения увез от пожилых родителей их единственную дочь. Затем – когда венчался с ней, как можно догадываться, без особого желания. Все это зафиксировано в тексте третьего явления первого действия:
Петр. Эх, уж видно, мне не жить по-людски...на меня, должно быть, напущено. Загубил я себя с тобой! Связала ты меня по рукам и ногам.
Даша. Ты мучитель, ты кровопивец!
Илья. Что вы? При мне-то? Молчать! Ты, никак, ума рехнулся! Тебя нечто кто неволил её брать? Сам взял, не спросясь ни у кого, украдучи взял, а теперь она виновата! Вот пословица-то сбивается: «Божье-то крепко, а вражье-то лепко».
Петр. Она меня приворожила чем-нибудь...зельем каким ни есть.
Илья. Не говори, не греши! Что тебя привораживать, коли ты и так ровно чумовой. Своевольщана-то и все так живет. Наделают дела, не спросясь у добрых людей, а спросясь только у воли своей дурацкой, да потом и плачуться, ропщут на судьбу, грех к греху прибавляют, так и путаются в грехах-то, как в лесу.
Петр. Да что ж, батюшка, делать-то? Как ещё жить-то?
Илья. Живи по закону, как люди живут.
Петр. Ну, а я вот загулял. Мне что за дело, как люди живут; я живу, как мне хочется.
Илья. Известно, по своей воле легче жить, чем по закону; да своя-то воля в пропасть ведет. Доброму одна дорога, а развращенному десять. Узкий путь вводит в живот, а широкий и пространный вводит в пагубу…Не для веселья мы на свете-то живем…Помни, Петр! Перед твоими ногами бездна разверстая. Кто впал в гульбу да в распутство, от того благодать отступает, а враг человеческие возрадуются, что их волю творят, и приступают, поучая их на зло, на гнев, на ненависть, на волхвование и на всякие козни и таковым одна участь с врагом. Коротко говоря, причину семейных неурядиц сына благочестивый отец видит в утери им благодати. Приведем и другую, религиозно не менее убедительную версию происходящего семейного разлада, весьма, впрочем, близкую первой. Она принадлежит Агафону, отцу Даши, проявляющему, что не лишне отметить, именно ту высочайшую степень любви, о которой всего лишь только говорит на словах, не проявляя ее на деле, его сват: «Детищу-то против родителей...как будто не годиться. Я любовь к ней имею, потому одна, а кого любишь, того и простишь. Я и врагу прощу, я никого не сужу. Да разве я один судья-то? А Бог-то? Бог-то простит ли? Может, оттого и с мужем-то дурно живет, что родителей огорчила. Ведь как знать?» Эта мысль не чужда и Даше, признающейся матери: «сама виновата, без воли родительской пошла за него».
Отметим, что следствие этого одного-единственного своевольного поступка человека становиться причиной дальнейшего развития в этом направлении не только его одного, но также переворачивает вверх тормашками жизнь в той или иной мере связанных с ним людей, и не только близких, но даже в той или иной степени от него отдаленных. Кажется, в стороне от бесовских энергетических волн, исходящих от Петра, наматывающего окружающее пространство и пытающихся мирно существовать в нем людей как некий бешено крутящийся в волчок, которому Петр может быть смело уподоблен, не остается ни один из персонажей пьесы – каждый в той или иной мере затронут ими, а юная возлюбленная, похоже, не прочь ступить на ту же скользкую дорогу, по которой подобно перекатиполю катится возлюбленный.
Груша. Девушки! Я нынче гулять хочу! Всю ночь проездим, песни прокричим. Хочу себя потешить, своему сердцу волю дать. О! Да что тут разговаривать! Давайте винца выпьем, пока матушка не пришла. (Достает из поставца вино).
Я вперед дорогу покажу. (Пьет). Пейте, девушки, не ломайтесь, только поскорее! (Подносит вино; некоторые пьют; все хохочут).
А уж далее, буквально после этих ее слов, на сцене появляется Еремка – человек, одержимый смертью, несколько раз пытавшийся покончить с собой, о чем зритель мог узнать раннее, со слов Груши: «Кузнец Еремка все этак душой-то своей клялся, в преисподнюю себя проклинал...И завел его на сеновал под крышу. Насилу стащили, всего скорчило. Каких бед с ним не было. Два раза из проруби вытаскивали, а с него все как с гуся вода». Зловещи еремкины шутки: «Я ведь колдун: я с вами шутки шучу, всех назад затылком оборочу». Зловещи его песни: «Я на камушке сижу, я топор в руках держу». Закономерен поэтому следующий сговор его с Петром с целью убийства жены и приворота любовницы посредством некоего колдуна.
После сговора зловещая и без того атмосфера ещё более сгущается, вернувшаяся в дом мужа Даша говорит: «У меня что-то сердце не на месте. И так страшно». Ей вторит Анфимья: «Спать хочется, как перед бедой. Говорят, перед бедой-то сон одолевает». И беда чуть было не случается. В доме появляется Петр, настропаленный колдуном против жены, которую он жаждет убить: «Убью! Своими руками задушу! Она мне враг, а не жена! Мне нынче человек сказывал про нее, все сказывал, он все знает, он колдун...Он говорит, не жена она тебе, а змея лютая. Вот и кореньев мне дал...Горюч камень алатырь...привороты все знает, пущает поветру». Здесь на какую-то минуту возникает в его сознании осознание ужаса пути, на который он повергнут вражьей силой. «Страшно мне! Страшно! Я пьяница, я беспутный, ну, убейте меня! Ну, убейте, мне легче будет. Кто меня пожалеет? А ведь я человек тоже. (Плачет)». Но это только на минуту, ибо далее: «Обижают меня! никто меня не любит, извести меня хотят! Все на меня, и жена, и все». Напрасно увещевает его тетка: «сам всему причина, не на кого пенять». Но снова и снова мысль Петра возвращается в круг извращенной демонской логики: «Нет, не то, тетушка, все не то! Все не то я говорю! Вот что: кабы я не был женат, разве б Груша меня не любила. Я бы женился на ней. Стало быть, жена мне помеха, и во всем она поперек. Вот за это я ее и убью... за это самое...»
До какой степени доведена демонами психика Петра, свидетельствует довольно неожиданная и странная в претендующем на бытовую реалистичность произведении сцена с явлением Еремки, которого никто, кроме Петра не видит:
В комнате вдруг появляется Еремка, которого видит один Петр.
Петр. А, благоприятель! Что ж ты смотришь на меня? что ж ты так смотришь? Ведь сам научил, как жену извести!
Афимья. С кем он это говорит-то – никого нет. Наше место свято! Чур меня! чур меня! пойти, разбудить всех! (Уходит).
Петр (Еремке). Что ты говоришь, а? Ну да! И я то же говорю, чудак человек! Вместе пойдем! Поскорей, поскорей! (Останавливается). Ха, ха, ха! Смешной ты человек! Вот он ножик-то! (Уходит).
Этот ножик и раннее вроде бы сам собой вползал в руку Петра. Тогда от махания им с трудом отговаривала Петра Афимья: «Что ты ножом-то махаешь, ну тебя! С тобой страсть одна, да и только.
Петр. Я ее по следу найду! Теперь зима, снег, по следу все видно, месяц светит, все равно что днем». И опять перепад тональности: «страшно мне, страшно! Вон метель поднялась... ух, так и гудет! Вон завыли... вон, вон собаки завыли. Это они на мою голову воют, моей погибели ждут... Ну, что ж, войте! Я проклятый человек!.. Я окаянный человек».
Насколько Петр был близок к гибели – не только нравственном, но и в физическом смысле мы узнаем в финале пьесы, которому предшествует вот какой разговор:
Афимья (взглянув в дверь). Ушел, ушел! И двери все настежь растворил. Послать людей за ним.
Даша. Вот, матушка, сама ты погляди, как сладко мне жить-то!
Степанида. Ах ты, дитятко мое родимое, головка победная!
Агафон. Погоди дочка, не ропщи. Живешь-то замужем без году неделя, а уж на жизнь жалуешься.
Даша. Да чего мне ждать и вперед-то, коли отец от него отступился совсем?
Агафон. Отец отступился, да, может, Бог не отступился. Потерпи.
Даша. Рада бы я терпеть, да мука-то моя нестерпимая. Я его не виню, Бог с ним, а жить с ним не хочу.
Агафон. Все это не дело, все это не дело! Ох, ох, ох! Нехорошо! Ты сама права, что ль? Дело сделала, что нас со старухой бросила? Говори, дело сделала? Так это и надо? Так это по закону и следует? Враг вас обуял! Вы точно как не люди! Вот ты и терпи, и терпи! Да наказание-то с кротостью принимай, да с благодарностию. А то что это? Что это? Бежать хочет! Какой это порядок? Где это ты видала, чтоб мужья с женами порознь жили? Ну, ты его оставишь, бросишь его, а он в отчаянье придет – кто тогда виноват будет, кто? Ну, а захворает он, кто за ним уходит? Это ведь первый твой долг. А застигнет его смертный час, захочет он с тобой проститься, а ты по гордости ушла от него... Ты подумай, дочка милая, подтекай хорошенько. (Плача). Глупы ведь мы люди, ох как глупы!..Горды мы!
По молитвам Агафона и ими же с ним волею автора спасается Петр от погибельных демонских козней, которые доводят его до поистине непостижимых и страшных для его рассудка, принимающего живых людей за приведения, вещей на что Островский не указывает прямо, но по многим его оговоркам об этом, можно догадываться. Но, в конце концов, все-таки приводят к покаянию, которым ознаменован финал, вместивший также и последующее прощение Петра его близкими.
Петр (озирается). Кто тут? Что вы за люди? Жена!.. Живые вы люди или нет? Скажите мне, ради Бога.
Даша. Что с тобой?
Петр. Не стою я, окаянный, того, чтобы глядеть-то на меня! да и не глядел бы, кабы не чужие молитвы. Простите меня, добрые люди, ради Господа! (Становится на колени).
Агафон (подымая его). Что ты, что ты? Петр Ильич! Встань, встань!
Петр. Я ведь грешник, злой грешник!..Уж я покаюсь перед вами, легче будет на душе моей. Вот до чего гульба-то доводит: я ведь хотел жену убить...безвинно убить хотел. Взял я тут, пьяный-то, ножик, да и иду будто за ней. Мерещатся мне разные диковины да люди какие-то незнакомые, я за ними...я за ними...Спрашиваю: где жена? Они смеются да куда-то показывают. Я все шел, шел...вдруг колокол...Я только что поднял руку, гляжу – я на самом юру Москвы-реки стою над прорубем. Вспомнить-то страшно! И теперь мороз по коже продирает! Жизнь-то моя прошлая, распутная-то, вся вот как на ладонке передо мной! Натерпелся я страху, да и поделом! Вспомнил я тут и батюшкины слова, что хожу я, злодей, над пропастью. Вот они, правдивые-то слова! Уж не забыть мне этой ночи, кажется, до самого гроба! Батюшка, матушка, поживите у нас!.. Помогите мне, добрые люди, замолить этот грех!..Да и к батюшке-то сходите, скажите ему...сам-то я не смею идти.
Все. Помоги тебе Бог!
Кажется, что Петр создавал для себя проблемы буквально на пустом месте. Но это если судить не по духовному рассуждению. А если вооружится им – то и не вполне пустом. В основе каждого греха – помышление, настойчиво внушаемое врагом – вплоть до его практической реализации. По всем этапам этого пути Островский последовательно проводит своего героя, по ходу вразумляя его поучениями отца, вслух высказываемым отчаяньем тетки, трогательными жалобами жены. Все они хотя бы на время заставляют его призадумываться, но он над собой властен, всю власть над ним забрала вражья сила, воспользуемся словосочетанием из либретто Островского, написанного для оперы Серова на сюжет рассматриваемой пьесы. Или же, что не менее точно – власть тьмы, по определению Льва Толстого, использовавшего сюжетные положения драмы Островского для своей одноименной пьесы. Кстати, каждое из названий очень внятно отражает подход двух авторов к одной и той же проблеме. У Толстого, несмотря на то, что он в изображении нравственного падения героя собственной пьесы пошел гораздо дальше Островского, в религиозном смысле это падение выражено менее внятно, менее напряженнее и без сомнения значительно более снижено посредством выдвижения на первых план бытовых реалий. И, конечно, более рационально выстроено. Островский же, выдвинувший на первый план подчеркнуто иррациональные обстоятельства, не могущие быть разрешенными не иначе, как с Божьей помощью, совсем недаром предполагал вначале назвать свою пьесу «Божье крепко, а вражье лепко». И очень жаль, что он решил потом от него отказаться.