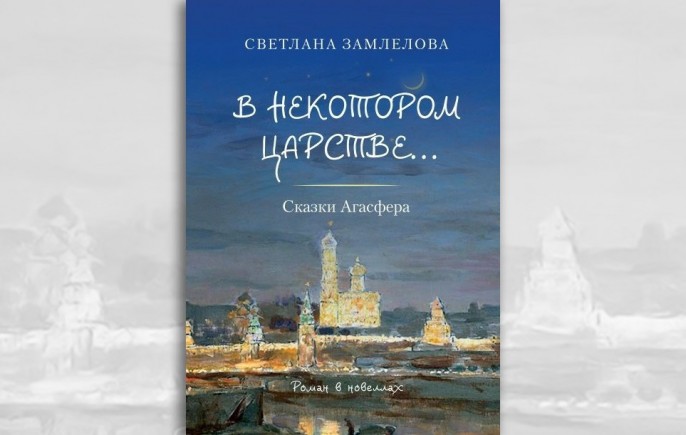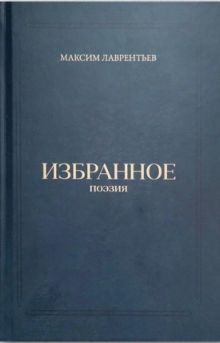Замлелова Светлана. В некотором царстве… Сказки Агасфера. — М. : Московская городская организация Союза писателей России, 2024. — 424 с.
Чтение новой книги Светланы Замлеловой, за развитием творческого дара которой слежу не первый год, сразу же настроило на исследовательский лад. Поначалу, удивлённый стилистикой изложения и кристальной чистотой русского слога, автор этих строк начал поиск параллелей с произведениями мастеров жанра прошлых веков. Первые новеллы отсылали к Николаю Карамзину, основоположнику сентиментализма, следующие радовали мотивами и атмосферой "Очарованного странника" Николая Лескова, далее прослеживались "рука" Александра Куприна и перо бытописателя нравов Первопрестольной Власа Дорошевича, последним аккордом "звучал" новатор-шестидесятник Василий Аксёнов. Языковая стилистика отдалённо перекликалась, словно эхо, с классиками отечественной литературы, но сюжеты отличались исключительной оригинальностью. Постепенно становился понятным и более чем оправданным подход автора к сочинению новелл — каждому веку в отечественной словесности были присущи свои дух и язык. И с решением непростой задачи — провести читателя через века, по площадям и улочкам меняющейся Москвы, через судьбы людей, живущих в нашем городе в незапамятные и относительно недавние времена, писатель справилась блестяще.
Но у этой книги, как, впрочем, и у других равных ей по высочайшему литературному мастерству автора, наверняка найдётся немало читателей, которые увидят в новеллах не только явные элементы притчи, а постараются разглядеть между строк некие писательские намёки, недоговорённости и скрытые смыслы, устремляющие повествование на более высокие интеллектуальные уровни. Ведь за занимательными и всегда в определённой степени назидательными сюжетами порой действительно можно усмотреть и личную философскую доктрину литератора, и ненавязчивые аллюзии, и едва уловимую иронию, а порой и сарказм.
Каждый из нас увидит в книге нечто особенное, индивидуальное, в силу тех парадигм и координат бытия, в которых обретает смысл и цель собственной жизни. Факт существования подтекста в своём новом романе Светлана Замлелова обозначает с первых же страниц, сравнивая "вечную старушку" Домну Карповну, от лица которой ведётся повествование, с мифическим Агасфером, вечно живущим и перемещающимся по городам и весям всего мира. Причина появления такого героя и сравнение его с почти всезнающей и всевидящей на протяжении своего многовекового странствия по улочкам и дворам Первопрестольной Домной Карповной оправдано особенностями хронологии действия новелл — от конца XVII столетия до перестроечной эпохи 1980-х годов.
Отвлекаясь на минутку от этой книги, стоит отметить, что её своеобразным логическим продолжением является ранее написанный Светланой Замлеловой роман "Блудные дети, или Пропадал и нашёлся…", где завязка стремительно развивающегося сюжета стартует в начале 1990-х годов, а финал, хоть и имеет конкретную дату, дальновидно остаётся во многом открытым.
Широкая во всех отношениях панорама человеческих страстей, природа коих едва ли меняется на протяжении тех эпох, в которых волей автора оказались герои нового романа, вполне обусловлена определёнными философскими идеями и постулатами. Но какими? С одной стороны, к героям применим категорический императив Канта: "Поступай так, чтобы ты всегда относился к человечеству и в своём лице, и в лице всякого другого так же, как к цели, и никогда не относился бы к нему только как к средству" (И. Кант "Основоположение к метафизике нравов", 1785 г.). В классическом понимании эта фраза трактуется как призыв к альтруистическому поведению, согласно которому нельзя относиться к другим людям исключительно как к средствам достижения своих эгоистических желаний. В поступках многих героев романа это отчётливо проявляется. В новелле "Никанор Ильич Покровский" поначалу пугливая девушка Сарра из захолустного местечкового Мглина, оказавшись в Москве и быстро приспособившись к столичной жизни, пытается путём череды замужеств стать ни много ни мало генеральшей. Для этого она идёт на многое, переступает границы нравственности и почти добивается своего, но сама жизнь красавицы нелепо обрывается. А юный и, на первый взгляд, недалёкий герой новеллы "Еким Петунников", получив благодаря своей простоте душевной сокровища, радость находит не в золоте, а в мире с самим собою и со своими близкими. Но моральный закон Канта ещё глубже, и этот философский посыл можно усмотреть между строк романа Замлеловой: любой человек, как часть всего человечества, ценен, каким бы он ни был — и альтруист, и стяжатель, и богач, и нищий. Вопрос в другом: что получают эти люди в результате своих действий? На практике, в реальной жизни категорический императив выражается, например, в бескомпромиссном отказе от оправдания лжи даже во благо конечной праведной цели. В романе эта тема обозначена хоть и ненавязчиво, но вполне очевидно.
С другой стороны, и автору этих строк ближе именно такая трактовка: "Величие человека в том, что он мост, а не цель; и любви в нём достойно лишь то, что он — переход и уничтожение". Ницшеанская концепция "человека-моста" (Ф. Ницше "Так говорил Заратустра. Книга для всех и ни для кого", 1883 г.) также вполне отчётлива в романе. Вполне самодостаточные по сюжету новеллы показывают читателю разные эпохи московского житья-бытья, и "населены" они совершенно разноплановыми героями — купцами, священниками, юродивыми, ростовщиками и юристами. Есть среди них дети и старики, фоновые персонажи и узнаваемые, имеющие прототипы в реальной жизни герои — от злобного журналиста-"полудиссидента" до незадачливого баловня судьбы, безбашенного футболиста, в образе которого легко узнаётся герой другой книги Замлеловой — "Эдуард Стрельцов. Воля к жизни".
Многие из героев новелл, выполнив свою роль "моста", трагически уходят за горизонт событий. Однако они свою функцию, которой их наделил автор, великолепно выполняют. Заставляют задуматься над превратностями бытия, над смыслом нашего существования "здесь и сейчас" и, словно вишенка на торте, приглашают примерить на себя личину Агасфера и прогуляться по улочкам и площадям стародавней Москвы, которые так живо и образно вписаны в художественно-философский контекст романа, и, может быть, попутно в лабиринтах переулков или в потаённых уголках своей души обрести то, к чему всегда стремились, но боялись признаться в этом даже самому себе.