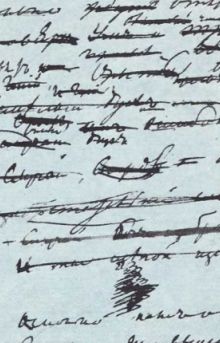Честертона я очень любил в отрочестве. Помню чрезвычайно яркое впечатление, которое произвели тогда на меня эти своеобразные произведения. Теперь впечатление, конечно, потускнело: я понимаю, что персонажи Честертона – это заведённые на одну единственную программу автоматические существа, марионетки, без устали потчующие читателя авторскими каламбурами; пейзажи, на фоне которых они действуют – наспех расписанные аляповатые театральные декорации, а сами действия, которые они совершают – стремительное, а оттого почти неразличимое мелькание кинематографической пленки, запущенной со страшным ускорением – может быть для того, чтобы читателю не пришло в голову сосредоточиться на отдельных деталях. Всё это, оговорюсь, не недостаток, таков его стиль.
Человек-гора ростом в 193 сантиметра, весом 130 килограммов, он на гора выдавал огромное количество произведений, по приблизительному подсчету – свыше ста томов, в самых разнообразных жанрах. Его именовали князем парадоксов, и небезосновательно: можно сказать каждое из его произведений – воплощенный парадокс. Чего стоят одни только романы: «Человек, который был Четвергом», описывающий сообщество анархистов, каждый член которого является внедренным в него сыщиком, борющийся с анархизмом, а глава по меньшей мере знаменует собою покой мироздания, что явно не лишне для суматошного мира Честертона; «Наполеон Ноттингхиллский», где главным героем делается попытка вернуть в так называемый цивилизованный мир средневековье; «Перелётный кабак», в котором исламисты пытаются установить диктат в Англия и, в качестве противостояния им, с риском для жизни - перевозимая с места на место бочка с вином, распитие которого запрещено, с целью потчевания им окрестных фермеров. Шумный и неугомонный герой романа «Жив-человек» пробует приобщить людей к радости, направляя на них дуло револьвера и опуская вниз головой в пропасть, а эксцентричные персонажи романа «Шар и крест» устраивают дуэль из-за Божьей Матери – при том, что живут в реальности, в которой упоминание Бога не то что запрещается, но не приветствуется. Суд, где ирландец-католик пытается объяснить причины своего дебоша в редакции газеты и нападение на редактора-атеиста и реакция на него суда поразительнейшим образом напоминают современные реалии, с которыми вынуждены мириться мы все.
«- Он мой враг, - отвечал Эван с серьезностью глупого ребенка. – Он враг Богу.
Судья выпрямился и едва удержал пенсне.
- Прошу вас, без…э…выражений! - торопливо сказал он. – Причем здесь Бог?
Эван широко открыл светлые глаза.
- Бог…- начал он.
- Прошу вас! – строго сказал судья. – и вам не стыдно говорить о таких вещах на людях…э…в полиции? Вера – частное дело, ей здесь не место.
- Неужели? – спросил житель гор. – Тогда почему они клялись на Писании?
- Не путайте! – сердито поморщился Вэйн. – Конечно, мы все уважаем присягу…да, именно уважаем. Но говорить в публичном месте о священных и глубоко личных чувствах – это безвкусно! Вот именно, безвкусно. (Слабые аплодисменты). Я бы сказал, нескромно. Да, так бы я и сказал, хотя не отличаюсь особым благочестием».
В том же духе разглагольствуют и другие персонажи, исповедующие различные религиозные учения, но тем не менее согласные в самом главном – в ненависти к христианству (самые последовательные из них - толстовец и неоязычник). Не случайно финал ознаменован пожаром, уничтожающим сумасшедший дом, который является метафорой секуляризованного общества со всеми его обитателями.
Будучи верующим человеком, Честертон понимал, насколько безумен такой мир, поэтому пытался по мере сил это безумие преодолеть. Вопрос – насколько успешно: его религиозные парадигмы забавны и интересны, но, кажется, они отличаются тем же свойством, что и броские картинки на установленных вдоль дорог баннерах, которые дают представления о виде товара, но не об его качестве. Под товаром я подразумеваю католичество, чьим глашатаем он был последние двадцать лет жизни, а наглядным примером такого баннера может считаться весьма примечательная фигура священника-детектива отца Брауна.
Браун, вроде бы, неподдельный простец, а ведь такого сорта люди не бывают парадоксалистами, стать парадоксалистом заставляет его автор. Кроме того, Честертон наделяет его любопытством, но религиозный человек его не то что лишен - он добровольно ограничивает себя в знании того, что ему не обязательно следует знать. Примечателен метод, при помощи которого Браун расследует преступления.
«Я видел, как я сам, как мое «я» совершало все эти убийства. Разумеется, я не убивал моих жертв физически – но ведь дело не в том, их мог убить и кирпич. Я думал и думал, как человек доходит до такого состояния, пока не начинал чувствовать, что сам дошел до него, не хватает последнего толчка. Это мне посоветовал один друг – хорошее духовное упражнение. Кажется, он его нашел у Льва ХIII, которого я всегда почитал.
Главная черта католика – пламенное воображение. По целому ряду примеров мы знаем, как это воображение определяло тональность католической молитвы, порождающей, в свою очередь, чувственные образы, и уже через них приводило к отожествлению со святыми. На примере отца Брауна мы убеждаемся, что это же свойство совершенно естественно может привести к отожествлению с преступником. Учитывает ли Честертон, что из такого состояния можно и не выйти? Любая чрезмерность вредна. Плохо не то, что католик идентифицирует себя с преступником, плохо то, что при этом он не способен удержать в узде свое галопирующее воображение, над которым, начиная с какого-то момента, он уже не волен.
- Я не изучаю человека снаружи. Я пытаюсь проникнуть вовнутрь. Это гораздо больше, правда? Я – внутри человека. Я поселяюсь в нем, у меня его руки, его ноги, но я жду до тех пор, покуда не начну думать его думы, терзаться его страстями, пылать его ненавистью, покуда не взгляну на мир его налитыми кровью глазами и не найду, как он, самого короткого и прямого пути к луже крови. Я жду, пока не стану убийцей.
- О! – произнес мистер Чейс, мрачно глядя на него. – И это вы называете духовным упражнением?
- Да, - ответил Браун, - именно это».
Для наглядности представим себе фантастическую ситуацию, что расследовать преступление пришлось бы не честертоновскому патеру, а кому-нибудь из реально существующих православных его современников –святому праведному Алексию Мечеву, например, с которым, вообще-то, патер Честертона имеет нечто общее. Готов поручиться, что он не стал бы проделывать упражнения с переселением себя вовнутрь преступника. Впрочем, и представлять-то не надо, а лучше обратиться к опыту жившего в третьем веке преподобного Макария Египетского, раскрывшему однажды картину преступления самым что ни на есть простым, но далеко не обычным образом.
«Однажды невинный человек был обвинен в убийстве, случившемся в тех местах, где была келья преподобного. Обвиняемый прибежал к жилищу Макария, куда за ним пришли и те, которые хотели схватить его, как убийцу и предать законному суду. Он же божился и клялся, что невиновен в крови убитого, но обвинители старались представить его виновным.
Узнав место погребения, преподобный встал и отправился туда вместе с пришедшими к нему. Помолившись долгое время над могилой коленопреклоненно, преподобный сказал предстоящим обвинителям:
– Сам Господь ныне явит, действительно ли этот человек, обвиняемый вами в убийстве, виновен в нем.
Воззвав, затем, громким голосом, Макарий назвал убитого по имени. И тот отвечал из могилы на его зов, и преподобный спросил его:
– Верою Иисуса Христа, Сына Божьего, повелеваю тебе ответить нам, тем ли человеком убит ты, который приведен сюда.
Тотчас мертвец ясным голосом ответил из могилы, что он убит не этим человеком, и его обвиняют в убийстве напрасно. Все пришедшие на могилу, пораженные сим дивным чудом, пали на землю».
Я ни в коем случает не призываю Брауна брать на вооружение именно такой метод – ведь тогда автору и рассказывать-то было бы не о чем. Да и недоступна ни одному католику молитва, хоть в какой-то степени сравнимая с молитвой преподобного Макария, позволяющая призывать в свидетели убитых людей. Но она и не нужна Брауну. «Я ничего не могу доказать, но – и это важнее! Я вижу всё», - самонадеянно утверждает патер-детектив, расследующий очередное убийство не сразу после его совершения, но по истечении десятка лет в рассказе «Сломанная шпага», герой которого, по словам автора, из тех, кто читает собственную Библию, другими словами - воспринимает религиозные догмы соответственно своим склонностям. Случай нередкий: помимо названного, в этот же ряд можно подверстать рассказы «Око Господне» и «Неразрешимая загадка».
В связи с исповедуемой Честертоном религиозной философией относительно границ человеческого волеизъявления, проистекающего из внушаемыми духом зла мыслями, принимаемыми человеком за свои собственные, не может не возникнуть вопрос об обширности этих границ. Мимо этого вопроса Честертон, конечно, не может пройти, но обозначает его чисто формально: я человек, а значит вместилище всех дьяволов – это едва ли не все, что он может по этому поводу сказать. Стоит обратить внимание, что ни одного персонажа, с которым имеет дело отец Браун (кроме разве что бывшего вора Фламбо, ставшего после встречи с ним сыщиком) пример его личности не вдохновляет на решимость истребления своих собственных бесов, а также на тот факт, что зачастую зная о долженствующих произойти преступлениях, Браун ни разу их не предотвращает. Может быть, вот по какой причине.
Дело в том, что методом, которым пользуется Браун, пользуются и преступники. Не чуждается его и автор, походя роняющий двусмысленно звучащую фразу в «Крылатом кинжале: «поэт может черпать лишь из того, что есть у него на душе» - и именно здесь, на глубинно личностном уровне его сознание соприкасается с сознанием преступника, который для него в этом смысле явный собрат. «Художник и поэт поневоле выдаст себя, - замечает в другом месте отец Браун. - Как он ни старайся, получилась бы изысканная пародия на слабую картину».
В качестве такой изысканной пародии могут восприниматься многие детективные рассказы, написанные Честертоном. Например, «Молот Господень», где преступник предстает своеобразным эстетом церковности, в его собственном понимании, естественно, и этот эстетизм заставляет его стать убийцей родного брата; но точно таким же эстетизмом, скрытым под слоем аморализма и душевной грязи отличается и сама жертва. Это странное сближение сознательно проводится и даже подчеркивается автором: «Говорили о нем, что не Бог ему нужен, а старинная архитектура, потому-то мол, он и бродит по церкви призраком, что церковь ему – все равно что брату вино и женщины, та же заразная прелесть, только что изысканная, а в общем одно и то же». Стоит заменить слово архитектура на литературу, чтобы понять, что этим же свойством, выраженным при помощи довольно неуместных для такого случая метафор, отличается и живописующий это убийство автор, а с ним и священник, чьими глазами увидено это малоприятное зрелище. «Посредине, возле груды молотков, простерся ничком труп в смокинге. Уилфрид с первого взгляда узнал все, вплоть до фамильных перстней на пальцах; но вместо головы был кровавый сгусток, запекшийся черно-алой звездой». Подобными вычурностями отмечена у Честертона и смерть других жертв, хотя бы в «Крылатом кинжале»: «На снегу, недавно таком белом, что-то чернело, что-то вроде огромной летучей птицы. Но довольно было взглянуть, чтобы убедиться в том, что это – человек, лежащий навзничь. Больше всего это напоминало какой-нибудь герб: чёрного орла на белом поле».
Возможно, эти эпизоды отражают внутренние недуги и кошмары, преследовавшие автора по жизни. Наверное, по этой же причине в его произведениях в самом что ни на есть прямом смысле слова отрываются и приставляются к другому туловищу головы (хотя это, оговорюсь, единичный и крайний случай), срываются парики и приклеенные усы и бороды, слой за слоем сползает привычное обличье и едва ли не все персонажи оказываются не теми, за кого они себя выдают. Но не таков ли и он сам?
В молодые годы Честертон мог вести спор с младшим братом в течении восемнадцати часов без перерыва, совершал множество других сумасбродств: по рассеянности пытался открыть дверь собственного дома штопором вместо ключа, по той же причине заходил в кафе, чтобы купить билеты на поезд, а в железнодорожной кассе заказывал кофе. Выходя на улицу, забывал, по какой нужде он вышел, и в ближайшем почтовом отделении отбивал жене телеграмму с просьбой напомнить ему, куда и с какой целью он направляется. Поэтому ему не составляло особого труда и литературу, и даже не без усилий обретенную веру превратить в красочное эксцентричное шоу.
Объяснением этому феномену может послужить подсказанная Честертону свято-отеческими источниками мысль о смехе.
«Только два типа мужчин могут смеяться, когда останутся одни. Тот, кто смеется один, почти наверняка или очень плох, или очень хорош. Видите ли, он поверяет шутку или Богу, или дьяволу. Во всяком случае, у него есть внутренняя жизнь».
К каким из двух этих категорий можно отнести Честертона – не как писателя, а как человека? Он, не забудем, поэт, «а поэту нужно, чтобы маска до известной степени была вылеплена на нем. Поступки его должны соответствовать тому, что в нем происходит». Но ведь правда и то, что, по не лишенному проницательности замечанию переводившего его на русский язык Ивана Кашкина, «картонная маска оптимиста рвалась от того хохота во весь рот, который стал привычной судорожной гримасой Честертона».
Кончина его, однако, была вполне христианской. Честертон умер в возрасте шестидесяти двух лет от застарелой сердечной недостаточности: не жалуясь, не ропща, долгую и тяжелую болезнь воспринимая как должное. «Секрет жизни – в смехе и смирении», - заявил он как-то в книге «Еретики». Во время болезни, надо полагать, смех его покинул. Но смирение, которое всегда было ему свойственно – осталось. С ним он и встретил смерть.