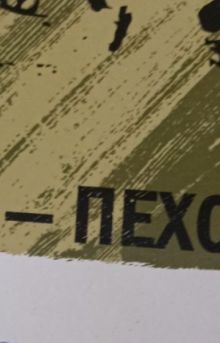1
Лимонов и смерть — несочетаемые сочетания: слишком избыточно в нем было жизни, бунта, живого неистовства; слишком спешил, казалось, хотел успеть поучаствовать во всех войнах, записать все, что пережил…
Стихи (а сейчас мне хочется говорить о Лимонове-поэте) его выкраивались из бумаги простоты: залитой харьковскими окраинами в той же мере, в какой эссенцией обэриутов, и, вероятно, Хлебникова, которого почитал крупнейшим поэтом века — прорывшим словесные ходы на много столетий вперед.
Смерть появлялась в стихах Лимонова: без брутальности и экзистенциального окраса: как-то так:
— Умираешь умираешь
Драгоценный в важном чине
Вспоминаешь вспоминаешь
О реке и о речной морщине
…будто в этот излом морщины и предстоит кануть, когда придет время…
Или так:
Половина его жива
(старика половина жива)
а другая совсем мертва
и старик приступает есть
Все, переходящие подростковый возраст и приступающие жить дальше, наполовину мертвы; всех сотрясают мысли о смерти: даже тщательно скрывающих это…
Простота поэзии Лимонова обманчива: изломы ее сверкают тайной, каковая не подлежит разгадке, как не подлежит ей и смерть.
Проза сильно проезжала по стихам Лимонова: сильно, всеми колесами, всею властью: прикоснувшись к которой он получил изрядное признание…
…и все равно — Лимонов не очень ассоциируется со смертью, только с жизнью, в том числе и с поэтической ее областью…
2
Лимонов ассоциируется с бунтом, войной, неистовством, но никак не со смертью, хотя, воевавший не раз, должен был знать о ней многое; а известие о его смерти вызывает сквозную реакцию: не может быть!
Однако – рога факта упираются в сознание.
Сам он, напарываясь на рога: государства, обстоятельств, судьбы, норовил бороться, но не уклоняться, обходные маневры почитая недостойными бойца.
Он не вписывался ни в великую советскую жизнь, ни в литературный тогдашний официоз: книги своих стихов издавал сам, и сам же распространял их, почитая себя достаточно известным поэтом, но предпочитая, кажется, общение со шпаной…
Рабочие окраины, пустыри, серовато-монотонный мир, пьянка: и зреющее в душе неистовство: жажда побега – желательно на край земли, или…
Стихи выкраивались из отказа от иллюзий и – конкретики, предложенной вокруг; стихи отсылали то к выкрутасам-экспериментам обериутов, то к словесным движения Хлебникова; и сквозь них всегда проступала проза.
Её Лимонов писал литыми фразами, собирая их сильно и стройно, и скандального в его книгах было столько же, сколько мастерского; однако, казалось, что сам он перерастает собственные романы, желая стать персонажем истории, куда более интересным, нежели писатель.
Западная жизнь не могла насытить – слишком гладко, слишком буржуазно, негде развернуться бунтарю, да и флаг никакой не поднимешь.
Вероятно, эмигрантские литературные круги представлялись Лимонову прокисшими, а возвращение на Родину…
Он ворвался в постсоветскую реальность мощно, бурно, страстно; он швырял в общество лимонки статей, и противостоял медленному превращению великой советской России в скучный филиал запада, без достоинств оного, с одними недостатками.
Война манила Лимонова: словно иначе он не мог проявиться, не мог закрепиться в истории; или – испытать своё мужество, или отточить его.
Казалось, он всю жизнь доказывал что-то: скорее себе, чем людям, скорее идеям, чем читателям, и вот…
Сможет ли доказать нечто смерти, известие о которой представляется чьей-то шуткой?
Но – в чёрном, – опалённый порохом, оставивший свои книги где-то позади себя, он уходит по бесконечной лестнице, едва ли зная, что там.
И бороться больше не с кем.