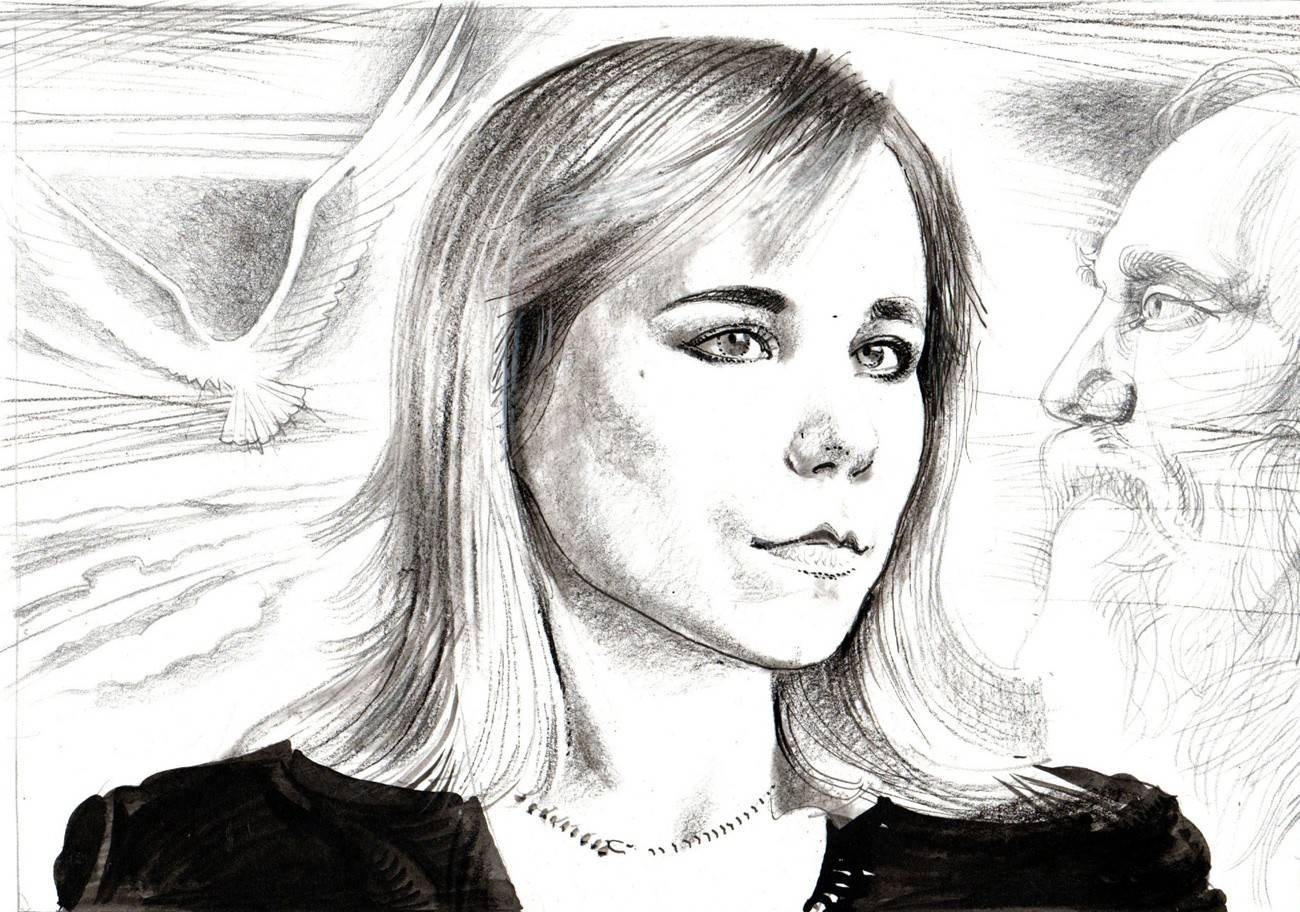Музеи – особые сгустки плазмы человечества: лучших слоёв интеллектуальной и душевной сущности народов; музеи – варианты храмов: в данном случае – поскольку речь о Русском музее – искусств: и собрания их облучают посетителей такой энергетийной мощью, что нельзя не меняться – в лучшую сторону…
Положение о музее было утверждено указом Николая II – и 7 марта по старому стилю – состоялось открытие музея, которому суждено было сыграть такую значительную роль в теме мировосприятия людского…
О, гремели события, наваливался двадцатый век с его смешением созидательного и разрушительного, войны громыхали: такой силы, что, казалось, отменят реальность: а музей жил, развивался, растил свои беспрецедентные живописные сады.
О, не только живописные: графика, скульптура, нумизматика, предметы декоративно-прикладного искусства также богато представлены в световых пространствах музея.
Первые предметы коллекции поступали из Эрмитажа, Академии художеств, Зимнего дворца; собрание формировалось ступенчато, умно уточняясь и обогащаясь; оно росло, вызывая неизменный интерес чутких душ и сердец.
Оно росло.
Трепетали монументальные творения Репина – на онтологическом ветру бытия: заражая и поражая зрителей; нежность и изящество Брюллова умиротворяли души; высокая строгость икон призывала жить по-другому.
Живопись, раскрывающаяся в сердце, не может не менять оного: имея в виду его метафизическую сущность; живопись – облагораживает человеческий состав, осветляя тёмные углы в нём, делая человека чище и тоньше.
В первое десятилетие после Октябрьской революции коллекция растёт стремительно: благодаря работе Государственного музейного фонда; наиболее полно в музее представлены живописные пласты XVIII-первой половины XIX веков…
Смотрят на вас: в ваши души замечательные портреты Левицкого, Аргунова, Боровиковского; прожигают сознанье глаза давно ушедших людей: словно жизненная плазма былого вливается в настоящее.
Колокольно гудят моря Айвазовского.
Влекутся знаменитые Бурлаки.
Расцветает советское искусство: нежный, но и жёсткий Петров-Водкин гармонирует с древесно-космическими прорывами Конёнкова, а совершенные, поэтические творения Мухиной не противоречат новой вести Дейнеки.
Музей роскошен.
Его богатства свидетельствуют о художественном богатстве нации; и каждый квант значительной живописи важен для человечества: а здесь, в Русском музее, столько прекрасного, что и действительность… должна бы меняться…