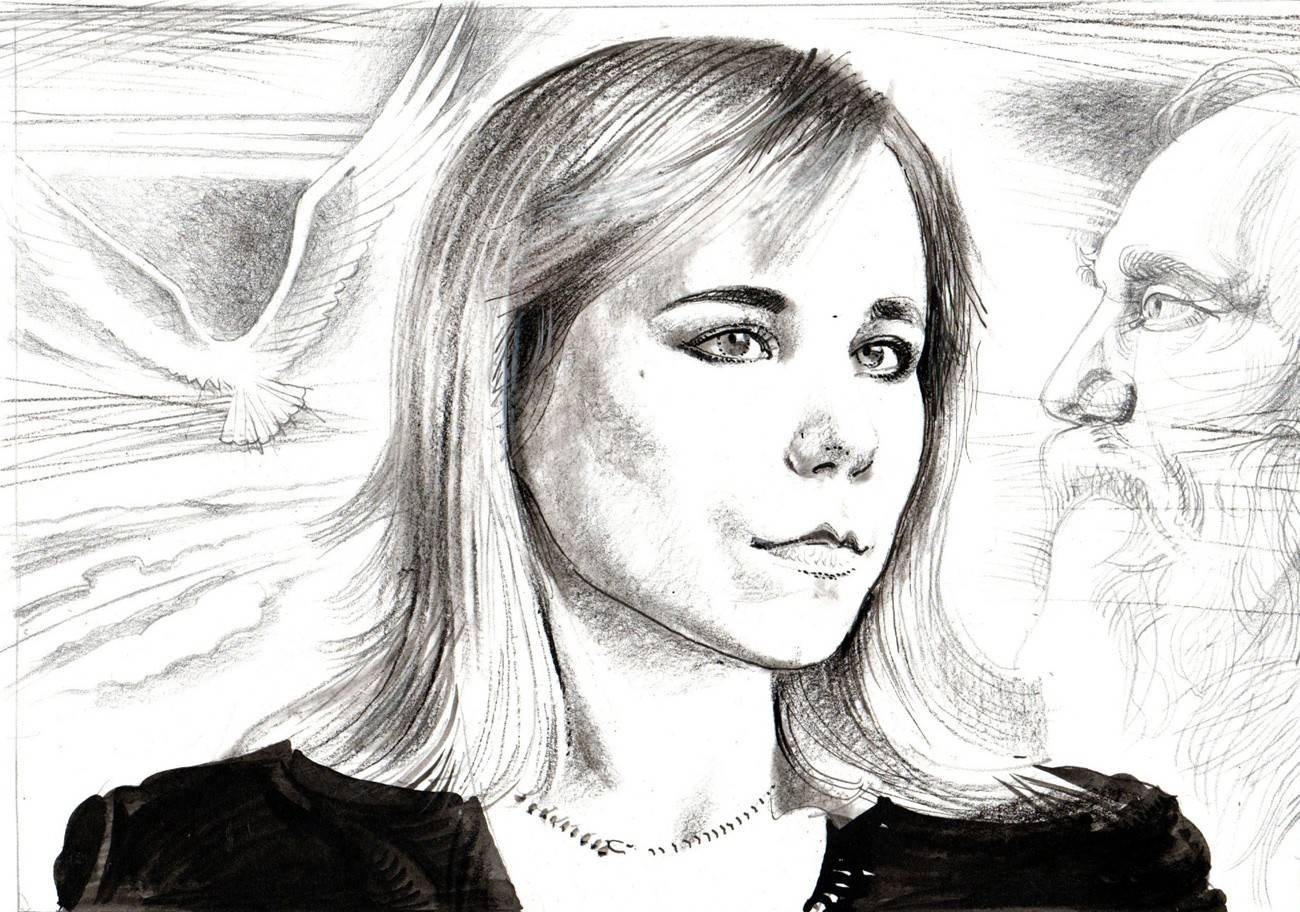1
Обиход человеческий повторяет природу, или…
Впрочем, «или» тут невозможно, и строчки Яшина:
Солнце спокойное, будто луна,
С утра без всякой короны,
Смотрит сквозь облако,
Как из окна,
На рощу,
На луг зеленый.
Нежно-детски ложатся во взрослое сознанье: прекрасною улыбкою детской простоты восприятия зажигают память о том времени, когда всё вокруг дружественно…
…деревенское, позабытое ныне, раздольно-русское, молочное, хлебное часто зажигается, разнообразно живёт, причудливо мерцает в стихах А. Яшина:
С новой запевкой на Новый год
Девка на лавке веревку вьет.
Косы у девки до полу, до пят,
В ковте булавки - головки горят,
Брошка на ковте, пуговки в ряд,
Цветики на ковте...
Добер наряд!
Забытое не воскресить, но можно прикоснуться к его сиянию, прикоснувшись к стихам Яшина…
…вообще разнообразных, пристально и пристрастно рассматривающих мир, где вагон в степи, давно лишённый колёс, вдруг как будто наполняется продолжением жизни, а пробежка по росе вспыхивает изумрудной гаммой счастья; а вязы звучат грандиозно, и воспринимаются, как старшие братья:
К вам иду с верою,
В вашу мощь уверовав...
Не оскорблю ни одного дерева —
Ни на одном не повешусь.
Жизнь вращается в пёстром калейдоскопе, вспыхивают новые оттенки, радуга роняет драгоценные капли цвета, чтобы по-детски удивлённо оживали стихи, чтобы звучали молодо, весело, и умудрённо.
Ибо все тропы должны вести к мудрости – в том числе и поэтические.
2
В поэте зреет прозаическое зерно чаще, чем в прозаике поэтическое, и то, что Александр Яшин обратился к прозе, будучи уже признанным поэтом, свидетельствует и о мере его таланта, и об интенсивности внутренней работы.
Критика встретила его прозу по-разному: на разносы наслаивались утверждения, что прозою он заслонил себя как поэта; истина, как ей и полагается, находилась между полюсами.
Критике подвергся уже первый опыт Яшина в прозе «Рычаги»: мол, картина, данная в рассказе, слишком мрачна: не соответствует яви.
Парадокс, однако, в том, что явь сама порою не соответствует образу, который должен бы её представлять; и сгущённая прозаическая мрачность Яшина логично вытекала из досконального его знания жизни – именно такой.
Правда поэта, перешедшего в прозу, была слишком наждачной – с одной стороны, а с другой – настолько хлебной, что невозможно было усомниться в подлинности предложенного.
Повесть «Сирота».
Цикл маленьких рассказов – «Первый гонорар», «Старый валенок»…
Акварельного разводы зарисовки, составившие цикл «Сладкий остров».
Александр Яшин раскрывался новою радугой: и дополнявшей его суровую, нежную, такую разную поэзию, и точно представляющей другого писателя.
Деревня – его боль и счастье, его родина и тоска – глинисто отдавала пейзажи свои бумаге, и люди, проходившие по тропам рассказов, были слишком всамделишными для сомнений в их правоте.
В их счастье-несчастье, круто смешанном в лаборатории Яшина.
Он был прозаиком соли: самой сущности дней; и крестьяне, хающие до начала собрания колхозные порядки, а потом говорящие то, что нужно, во время оного, настолько очевидны, что мысли о сознательном очернительстве кажутся кощунственными.
Поэтическое дело Александра Яшина концентрацией силы давало кристалл, сверкающий небесными гранями.
Но и проза его, взятая от земли, через боль и муку поднималась вверх, суля грядущее.