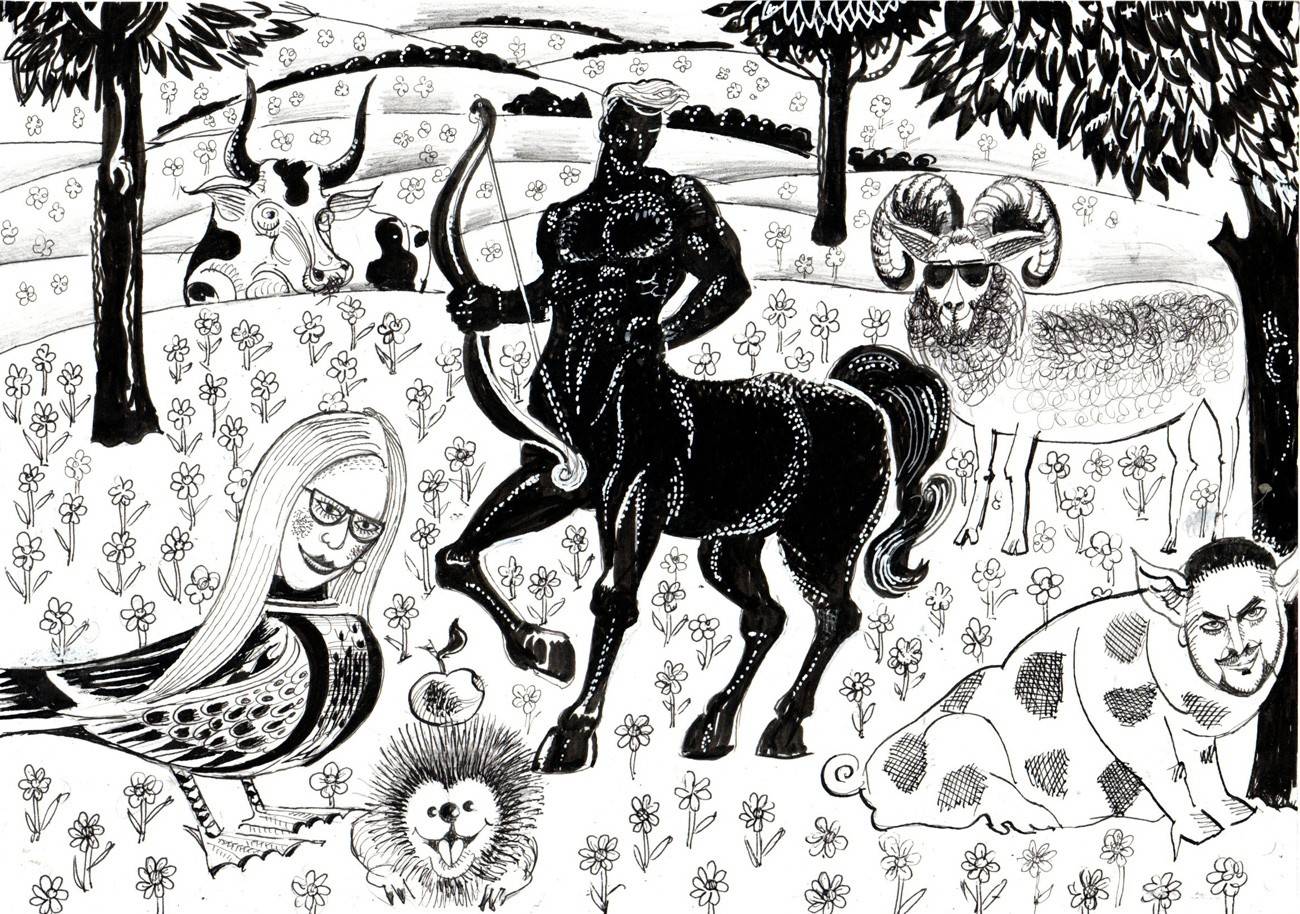…уже название новой книги А. Шацкова звучит знаково: «На этой земле»…
Тут заложены – счастье и крест, мёд и кнут, ощущение привкуса неба, когда речь идёт о возможностях души, и конкретика слепого бездорожья, известная всякому, ибо:
На Сретенье– лужи, на Пасху– пурга.
То степи, то чащи лесные.
Что скажешь? «Россия– и вся недолга!
Леса непролазны, круты берега».
Что сделаешь, это Россия.
Здесь нет колыбелей… Качают пращи
Камения судеб бедовых.
Здесь в битвах не прячут за спины мечи.
И здесь не дают на разжив палачи
Отступникам тридцать целковых.
Туго, как гнёзда, скручивает поэт стихи: ветви ощущений и опыта виртуозно ложатся в оные, и наполнение содержания, даже, если и отдаёт тяжестью земли, пронизано световой субстанцией…
О, она работает различно – через эстетическое исполнение, через отблески надежды, или – чувством гармонии, которое разливается в читательском сердце при соприкосновении с поэзией Шацкова.
Есть своеобразная праздничная приподнятость речи в поэзии поэта: именно высоты её, данные множественностью неординарных сочетаний слов и всем строем, обращённым к метафизическим небесам, и дают подобное чувствование, даже если поётся о тяготах и своеродных особенностях российской (порой даже – расейской) жизни…
На матовом стекле осенних рос,
На узорочье лиственной пороши
Легла печаль: сюда придёт мороз
И сущему всему предел положит.
Как тускло в небе солнце ноября!
Как ранит слух сухой осоки скрежет!
Чадя, не разгорается заря,
И тьма летит на веси и на вежи.
Пейзаж не ласков (хотя и в нём мерцает… этакое ласковое равнодушие мира), но игра звука, резкие вибрация «з», тонкие, приглушённые оттенки «п», словно создают тот оркестровый шатёр, ту особую музыкальность, что отзывается в душе… даже и умиротворением.
Много пейзажей раскрывает Шацков: здесь и зимние зоны белизны, и осеннее византийское многоцветье, и переливы других сезонов: но всегда – увиденное чётко проводится сквозь индивидуальные, ни с кем не спутаешь, призмы и кристаллы дара; всегда великолепное узорочье рассыпает суммы чудесных звуков, показывая картину выпукло и объёмно.
…а вот как интересно в колбе стихотворения алхимически совмещаются книжная пыль и снежная крошка, природное и интеллектуальное, и звезда детства, вспыхивающая в строках, раскрывает счастье бытования на этой земле, код этого сложного счастья:
Эта книжная пыль,
Прилетевшая из ниоткуда,
Чтоб, смешавшись со снежною,
Вновь улететь в никуда,
Мне напомнила:
Бабушка сказку читает про чудо,
Что останется в сердце
Осколками первого льда.
Явления и детали мира у Шацкова всегда подсвечены своего рода метафизикой: так и лёд здесь вспыхивает таинственным ощущением экзистенции бытия, её тайными пульсациями, озарившими в детстве, остающимися на всю жизнь.
Поэтическое слово Шацкова весомо: можно, кажется, любое взять в руку, рассмотреть, почувствовать его нюансы:
Привольно волку в матеры́х снегах.
На зимней свадьбе загулял матёрый.
Темно в бору, лишь снегириный птах
Горит на хвое свечкой краснопёрой.
Намёты и сугробы глубоки,
Бескрайни дали сумрачной России.
Опять, как в Смуту, волчьи огоньки
Рассыпаны на белой парусине.
Звери и птицы, как своеобразные гости мира, ощущаются поэтом по-особому, и снова ярко и самовито вспыхивают слова, переливаясь красками…
Богата палитра поэта!
Красива его словесная живопись.
…и снегириная свечка вспыхивает тою силой, что – не зримо и волшебно – связывает с пределами родной земли: родной, как собственное сердце: только бессмертной в отличие от него.
Впрочем, поэт, творя свой свод, противостоит чарам и силам смерти: ибо в отличие от тела, стихи опровергают могущество тлена.
Энергия счастья передаётся тонкой вибрацией простых строк: простых, ясных, богато насыщенных тем, что близко каждому: и поэт, фокусируя радость бытия в кристалле стихотворения, показывает меру людской всеобщности:
Как хорошо на свете просто быть!
Всё остальноеb– мимо, мимо, мимо.
Гулять с собакой, женщину любить,
Когда тебе любовь необходима.
Считать ворон, колоть с отцом дрова
И помогать с бельём усталой маме.
И слышать, как в саду растёт трава,
Где бродит кошка вместе с малышами.
Мимо трагедии проносится стихотворение, словно и не замечая её: мимо – туда, где снова и снова можно наколоть с отцом дров, мускульно прекрасно уставая и втягивая сладкие ароматы древесины; где, сосредоточившись, сконцентрировавшись предельно, можно услышать рост травы, и, приглядываясь к кошке, познать особенности её, столь отличного от нашего, мира.
И снова – праздничность речи поражает, завораживает.
Рождение стихов – таинственно и для самого поэта, недаром в стихотворение упоминается перламутр, играющий обычно оттенками запредельности, и общая соната стихотворения, упоминающая любовь, как Всецарицу, воспевает первооснову жизни:
Так бывает…
Влюбляясь в чужие стихи,
Ждёшь прихода своих, что родятся под утро…
И они зазвучат– из-под самой стрехи
Воробьиной капелью в лучах перламутра
Этой новой, дарованной Богом зари,
Нисходящей в пурпуре Любви-Всецарицы…
Так бывает…
И поэт, познавший правду и альфу бытия, бытованя на земле, в недрах вечного вращения юлы юдоли, щедро делится с читателями всем опытом: и, умножаемый даром, даёт он прекрасные, ни на кого не похожие, полные соком сути поэтические плоды…