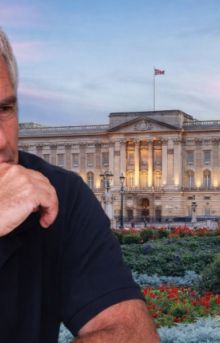В преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне предлагаем вниманию читателей фрагмент воспоминаний инженера танкового производства Кировского завода, заместителя командира по политической части Комсомольского полка противопожарной обороны Ленинграда Фёдора Васильевича Шикунова, датированный январём 1994 года.
Мне как непосредственному участнику этих событий, полностью прожившему весь период Ленинградской блокады, хотелось бы рассказать, в каких условиях сражались ленинградцы за Победу в войне, какие трудности и лишения пришлось им испытать.
Перед началом войны, будучи студентом-старшекурсником Ленинградского военно-механического института, я был направлен на Кировский завод, где работал инженером танкового производства, а затем был избран заместителем секретаря комитета комсомола завода. В последующие годы был переведён на работу в Ленинградский горком ВЛКСМ, где решением Ленинградского городского комитета партии был утверждён уполномоченным, а затем заместителем командира Комсомольского полка, созданного для выполнения специального задания. И все события обороны и блокады города проходили на моих глазах. Но в этой статье я хочу больше рассказать о работе в дни блокады и борьбе за Победу коллектива Кировского завода, где я находился длительный период.
Развязав внезапно войну против нашей страны, претендент на мировое господство Гитлер в своём плане "Барбаросса" уготовил Ленинграду единственный исход — быть стёртым с лица земли, а России нашей — вечное рабство. Используя своё превосходство в технике в первый период войны, фашистские войска быстро продвигались вглубь страны, в том числе и к Ленинграду. Город начал готовиться к обороне. Уже в первые дни войны в городской печати был опубликован Приказ №1 МПВД Ленинграда, которым определились обязанности населения, руководителей предприятий и организаций в связи с угрожающим положением. В ночное время ввели комендантский час.
В июле 1941 года с приближением линии фронта развернулось сооружение укреплений Лужского рубежа и Красногвардейского района. Рабочие, служащие, колхозники, студенты, школьники под бомбёжками и обстрелами с воздуха копали противотанковые рвы и окопы, строили доты, огневые точки, наблюдательные пункты. В этой работе порой одновременно участвовали до полумиллиона ленинградцев.
С первых же дней войны стали создаваться и отряды народного ополчения. Темп записи в ополчение день ото дня нарастал. 30 июня 1941 года в ополчение в городе записались 10 840 человек. На следующий день число записанных возросло в 2,5 раза, а 4 июля — в 8 раз.
В эти суровые дни и коллектив Кировского завода не мог стоять в стороне от общей борьбы. 23 июня на заводе состоялся бурный митинг. В гневной речи на нём старый производственник Ануненков заявил: "Убивая, терзая мирное население, грабя колхозы и сёла, коричневая чума мечтает потопить в крови ленинградцев, грабить всё, что создано нами в годы Советской власти. Не быть фашистам в Ленинграде — этому порукой наша самоотверженная работа для фронта, наша готовность в любом месте, на каждом шагу уничтожать фашистов".
Прямо на митинге началась запись в народное ополчение. Заявления подали и тысячи комсомольцев завода, в том числе и весь состав комитета комсомола. Зачислить всех желающих оказалось невозможно. К тому же люди нужны были не только на фронте, но и в тылу. Поэтому многие подавшие заявления специальной комиссией были оставлены работать в цехах.
В конце июня партийной организации завода было поручено создать из работающих на заводе I стрелковый полк Кировской дивизии народного ополчения, а также выделить часть бойцов для артполка, разведывательного и сапёрного батальонов и для других подразделений. Тогда же, учитывая желание передовых рабочих Кировского завода, партком и комитет комсомола приняли участие в создании местной рабочей дружины. Для дружины требовались 700 человек, но добровольцев на заводе насчитывалось значительно больше. В дни серьёзной угрозы, нависшей над городом, 10 октября 1941 года при заводе был сформирован рабочий отряд численностью 900 человек под командованием участника Гражданской войны коммуниста Э.Я. Лепиня, бывшего до этого начальником отдела стального и чугунного литья.
Кировская дивизия народного ополчения покрыла себя неувядаемой славой в боях на Лужском рубеже в 1941 году. Она около месяца сдерживала на 30-километровом фронте превосходящего по численности врага, рвавшегося к Ленинграду. Сотни кировцев этой дивизии прославили себя в боях. Среди них — мужественный командир разведчиков I полка этой дивизии Б. Бескончин, передовик производства товарищ Цурик, павший смертью храбрых начальник политотдела дивизии Д. Подрезов и многие другие.
Но фронт становился всё ближе к Ленинграду. Враг был остановлен буквально на пороге города. В середине июля 1941 года, когда обстановка на фронте обострилась, по решению Государственного комитета обороны Ленинграда началась эвакуация из города крупнейших предприятий. В глубокий тыл перебазировались 80 заводов и 13 ЦКБ, в том числе эвакуировалась большая часть коллектива Кировского завода. К цехам были проложены железнодорожные пути, и оборудование грузилось прямо на платформы. В первую очередь эвакуировали всё необходимое для выпуска новых танков КВ. Больно было видеть, как рабочие снимали с фундаментов и грузили на платформы станки, на которых проработали не один год. Люди прощались с родным заводом, ставшим частью их жизни, их гордостью.
Одновременно с эвакуацией заводов многие семьи из Кировского и Московского районов были переселены в центральные районы города. Их квартиры занимали военные команды, готовясь вести уличные бои.
Не добившись решительных успехов в наступательных боях, фашистские войска, завершив 8 сентября 1941 года окружение Ленинграда, приступили к блокаде города, продолжавшейся 900 дней. Они обрушили на него всю мощь своей авиации и артиллерии. 8 сентября 1941 года был осуществлён первый массированный налёт с воздуха и суши. Полсотни "Юнкерсов" и громада артиллерии бомбили и обстреливали город, обрушив главный удар на Бадаевские склады, где хранились основные запасы продовольствия для города. Эти склады были почти полностью разрушены и сожжены, что невероятно приблизило сроки голода среди населения.
Начались систематические артобстрелы и бомбёжки всех районов города. В один из дней враг обрушил на город 1 870 снарядов, обстреливал районы города на протяжении 10 часов подряд. Гитлеровцы подтянули к Пулково дальнобойные мощные орудия на рельсовых установках, снаряды которых не уступали по мощности авиабомбам.
Разрушались важнейшие объекты жизнеобеспечения. В результате городу не хватало электроэнергии. Даже работа промышленных предприятий велась в ограниченных размерах. В жилых домах электричество вообще отсутствовало. Керосина же купить было негде. Из-за недостатка топлива в квартирах было сыро и холодно. Фанера, заменявшая выбитые стёкла, не сохраняла тепло и не пропускала свет. Люди находились дома в верхней зимней одежде — у кого что было. Бельё постирать было негде, так как водопровод не действовал, бани не работали. Воду с большим трудом пришлось добывать в прорубях рек и каналов, дворы и лестничные клетки были страшно загрязнены нечистотами и мусором. И всё это на фоне постоянных обстрелов и бомбёжек.
С уничтожением Бадаевских продовольственных складов стали быстро иссякать запасы провизии. Если в сентябре и октябре 1941 года по карточкам кроме хлеба выдавалась чечевица, то в ноябре не стало и её. В столовых выдавали дрожжевые супы (500 граммов дрожжей на 150 литров воды). К 20 декабря было проведено уже пятое снижение норм хлеба. Они достигли минимума. Рабочим выдавали 250 граммов хлеба в день, служащим, иждивенцам и детям — по 125 граммов. И более никаких продуктов. А хлеб был блокадный — с примесями полусгоревших продуктов с сожжённых Бадаевских складов.
К этому следует добавить, что зимние 30–40 градусные морозы усугубили трагедию. В этой стуже город горел от зажигательных бомб, снарядов и печек-буржуек, у которых лежали обессиленные люди. В это же время остановились машины последней электростанции города. Погас свет на тех предприятиях, куда электроэнергия ещё подавалась. Полностью прекратилась подача воды. Но предприятия продолжали выполнять самые неотложные фронтовые заказы, используя в основном ручной труд.
Кировский завод являлся важнейшим для обороны страны. Кроме танковых пушек и другого вооружения, которое выпускали кировцы, фронту срочно потребовалась полковая 76-миллиметровая пушка. По заданию правительства в кооперации с другими предприятиями завод быстро освоил её производство. Когда фронту понадобились десятки тысяч лопат для сооружения оборонительных укреплений под Ленинградом, завод стал катать для них специальную сталь. Работали под девизом: "Нужно фронту — сделаем". Боевым подразделениям, оборонявшим город, не хватало снарядов и мин, и завод стал производить их. Причём из местного сырья. Но главным для завода остался выпуск и ремонт тяжёлых танков.
Кировские танки были грозой для гитлеровцев. Уже на четвёртый день войны на завод пришло известие, что несколько наших танков КВ разгромили целую механизированную колонну врага. Когда фронт приблизился к городу, танки прямо из ворот завода шли в бой. Помню, один из них вернулся на завод весь израненный. На броне машины было около сотни различных вмятин от вражеских снарядов, но ни одной пробоины. Прочность машины порой изумляла. Командир танковой бригады полковник И.А. Вовченко сообщал с фронта: "Бомба на четверть тонны взорвалась в метре от танка КВ. При взрыве танк основательно тряхнуло, затем он сполз в образовавшуюся воронку. У танка была сорвана гусеница, разбит телескопический прицел, экипаж легко контузило. А через 5 часов исправленный танк пошёл в бой". С фронта шли многие письма — дать больше таких танков. С конца июня по 10 октября 1941 года кировцы поставили фронту 335 тяжёлых танков КВ.
Кировский завод находился менее чем в четырёх километрах от передовой. С верхних этажей турбинного цеха мы хорошо просматривали в бинокль линию фронта гитлеровских войск. Фашисты очень хотели расправиться с заводом. Об этом можно судить по количеству сброшенных на него бомб, а также из показаний пленных гитлеровцев, захваченных нашими разведчиками. Уже в первую бомбёжку на завод было сброшено 627 зажигательных и 14 фугасных бомб. Во время той бомбардировки немцы спустили на парашюте 1000-килограммовую фугасную бомбу. Она опустилась на площадку между пятью цехами. Дежурившие в этот момент на крыше новочугунолитейного цеха бойцы МПВО решили, что на парашюте спускается диверсант, и сообщили об этом в штаб ПВО. Оттуда были высланы бойцы истребительного батальона, пытавшиеся "взять диверсанта живым". Бомба разорвалась в штабеле труб. Взрывной волной откинуло бежавших к ней бойцов, а в цехах были большие разрушения, вышла из строя электрическая сеть и телефонная связь. Немало было и жертв.
Немецкие войска вели по заводу почти круглосуточные обстрелы, добиваясь вывода его из строя. Так, 9 сентября 1941 года (на 80-й день войны) на предприятии было объявлено семь воздушных тревог, 10 сентября — восемь тревог, 12 сентября — 10 тревог и т. д. Артснаряды до 220 мм рвались по всей территории завода, принося сильные разрушения и человеческие жертвы. На завод забрасывались диверсанты, с которыми велась борьба.
Во избежание людских потерь неукомплектованные танки, стоявшие в сборочных цехах, были рассредоточены по заводской территории. Противопожарные, противовоздушные, медицинские службы находились в боевой готовности. В штабе обороны завода то и дело звонил телефон, и дежурные сообщали о попадании в цеха снарядов. Для гашения зажигательных бомб в одном из цехов ковались специальные клещи, с помощью которых "зажигалки" сбрасывались с крыш цехов на землю или в ящики с песком, расставленные по всем крышам. На крышах цехов строились площадки для зенитных средств и дежурных.
На заводе были созданы специальные подразделения для защиты предприятия и ближайших подступов к нему.
12 сентября 1941 года был образован штаб обороны завода. Он руководил местной противовоздушной обороной и формированиями, созданными в цехах и отделах. Формирование Кировского рабочего отряда началось с артдивизиона. Это боевое подразделение являлось основной силой отряда. За его организацию взялись лучшие люди завода: главный конструктор Ж.Я. Котин, начальник новочугунолитейного цеха К.М. Скобников, инженер Л.И. Румянцев и др. Полностью укомплектованный дивизион насчитывал 800 бойцов и имел на вооружении 12 орудий. Командиром был назначен инженер Румянцев, комиссаром — Скобников, начальником штаба — И.К. Южаков. Весь личный состав дивизиона перешёл на казарменное положение и включился в работу по устройству оборонительных сооружений на заводе и на подступах к нему. На территории завода было построено более километра баррикад, оборудованных бойницами, 18 дотов, 27 блиндажей, 13 миномётных гнёзд, установлено 47 пулемётов. Для стрельбы из винтовок и пулемётов в стенах зданий пробили 167 бойниц.
На заводе и прилегающей к нему территории вырыли противотанковые рвы, траншеи. На наиболее опасных участках установили противотанковые надолбы, а также противотанковые и противопехотные мины. В канализационных колодцах устраивались позиции для истребителей танков. К строительству оборонительных сооружений привлекались опытные военные и гражданские специалисты.
Бойцы дивизиона соорудили на своих позициях землянки и другие укрытия. В любую минуту они были готовы принять бой. Первая батарея заняла оборону на трамвайном кольце у завода имени А.А. Жданова и держала под обстрелом проспект Стачек и шоссе, идущее в сторону Пулкова. Вторая батарея расположилась за деревней Алексеевкой. Один из артиллерийских расчётов оборудовал себе огневую позицию прямо в заборе завода.
Вслед за артдивизионом были сформированы и остальные подразделения рабочего отряда: три стрелковые, истребительная, танковая и пулемётная роты, миномётный, сапёрный и разведывательный взводы, а также различные обслуживающие подразделения. Они имели всё необходимое вооружение для боя. Своими руками кировцы собрали танки для танковой роты. Территория завода была разбита на три сектора обороны.
Обстановка и на Кировском заводе день ото дня ухудшалась. В связи с отсутствием в квартирах света, воды, газа, а также из-за невыносимого холода и усилившегося голода все рабочие и служащие были переведены на казарменное положение. Но и здесь было нелегко. Впервые за многолетнюю историю известный в стране завод-гигант — цитадель революции, славившийся своей продукцией, кадрами, приумолк, не дымили его трубы.
Не было цеха, который бы не имел следов бомбёжек и артобстрелов. В одних цехах окна, крыши, стены были заделаны досками, толем, в других, опустевших, полуразрушенных и сожжённых, навевая снег, гулял ветер. Температура в цехах опускалась до минус 30 градусов. Невыносимой была обстановка и с питанием. Всего рацион состоял из 125–250 граммов блокадного хлеба и стакана хвойного напитка. Люди использовали в пищу столярный клей, олифу, кожу. А в декабре 1941 года и этого суррогата уже не было — всё съели. И при таком питании работали по 12–13 часов в сутки: ремонтировали танки, прибывающие с фронта, артиллерийские орудия, изготавливали снаряды, мины, пока подавалась на завод электроэнергия. А после, когда подача её прекратилась, работа шла вручную.
После трудовой напряжённой смены многие спали прямо в цехах, на деревянных настилах. Но в некоторых цехах были созданы и общежития. Но какие? Придёшь в это общежитие, а людей не видно. От коптилок страшная копоть и вонь, люди тянутся к печкам-буржуйкам, чтобы хоть как-то согреться. Или лежат на деревянных топчанах во всей рабочей одежде. Многие так и умирали здесь.
И всё же трудовой подъём царил в коллективе. Лозунг партийного комитета: "Каждый должен работать за двоих, троих, чтобы заменить товарищей, ушедших на фронт", стал лозунгом всех рабочих завода. Этот призыв выполнялся неукоснительно: в цехах росло и ширилось движение "двухсотников", которые, несмотря на все трудности, выполняли нормы выработки на 200 и 300 процентов.
Застрельщиками бригад ударного труда стали комсомольцы завода. В сентябре 1941 года на заводе была создана первая в городе комсомольско-молодёжная бригада, члены которой взяли обязательства регулярно выполнять производственные нормы на 200–300 процентов, а весной 1942 года кировцы-комсомольцы возглавили движение за звание фронтовой бригады.
Особый же подъём среди молодёжи завода вызвал Всесоюзный воскресник 17 августа 1941 года. В этот день на производство вышли 3,5 тысячи юношей и девушек. Все они перевыполнили свои нормы. Всего же в воскреснике участвовали 21 540 работников завода, от которых поступили в фонд обороны 700 тысяч рублей. Побывавший в этот день на заводе английский журналист Александр Верт сказал: "Для этих людей стало делом чести держаться до конца. Быть путиловцем, кировцем …звучало для них подобно знатному титулу".
Но страшный голод, постоянные бомбёжки и артобстрелы вели к многочисленным жертвам. Люди падали и умирали на ходу, в цехах, в квартирах, в очередях за хлебом, в пути к проруби за водой. Трупы лежали и по всему заводу, потому что отвозить и хоронить их было не на чем.
Установлено, что в первую блокадную зиму в Ленинграде погибли 641 808 человек. На Кировском заводе только в 1942 году погибли от бомбёжек, артобстрелов и голода 3 063 человека. Кроме того, не выехал на работу по неизвестным причинам 1 071 человек. Это в основном люди, погибшие на улице по пути на работу или с работы. Тела погибших на заводе уже позднее вывозили на общегородское Волково кладбище. Туда свозились трупы со всего города и складывались, как дрова, в штабели для последующего захоронения.
Комитет комсомола Кировского завода многое делал для спасения работающих на заводе, их семей и детей. Мы организовали питание рабочих непосредственно в цехах. За каждым цехом закреплялась группа девушек, которые в состоянии были ходить. 250 граммов блокадного хлеба, который по карточкам полагался каждому рабочему, делили на три порции, маленькими кубиками сушили, как сухарики, и примерно по 80 граммов со стаканом напитка из хвои разносили три раза в день (завтрак, обед и ужин) рабочим своего цеха. Хвойные иголки добывали и привозили на завод специальные бригады из леса, расположенного почти у самой линии фронта. Немало людей из этих бригад гибло от обстрелов фашистских войск.
Голод доводил людей до того, что они были похожи на полутрупы (дистрофия второй и третьей степени). Для тех, кто уже не мог работать, и для наиболее истощённых голодом на заводе были открыты стационары. Комитет комсомола направил туда комсомольцев, которые помогали этим людям и ухаживали за ними.
Мы старались как-то сгруппировать людей: ребят-ремесленников собрали по цехам и поместили в большую школу. Организовали ещё одно общежитие для девушек-дистрофиков, нашли для этих целей подходящий барак на улице Возрождения и здесь им организовали питание и уход. Комитет комсомола вместе с комсомольцами завода считали своей главной задачей не только подбадривать ослабленных людей, но и по возможности наводить кое-какую чистоту в общежитиях, бороться со вшивостью. А она приобрела общий, массовый характер не только на Кировском заводе, но и во всём городе, так как люди месяцами не мылись — для этого не было никаких условий.
К весне 1942 года тифозная вошь представляла, пожалуй, не меньшую опасность в городе, чем вражеские войска на подступах к нему. Долгие месяцы без воды, тепла, света и недостаток пищи подготовили почву для возникновения инфекционных заболеваний. Фашисты рассчитывали, что эпидемии смогут сделать то, чего не удалось добиться их авиации и дальнобойной артиллерии. Они не гнушались бактериологических диверсий — пропускали через линию фронта в Ленинград больных сыпным тифом. Первый такой случай привёл к трагическим последствиям, но и приучил к осторожности. 14-летний мальчик, пришедший с оккупированной территории в город, был помещён в детский дом Фрунзенского района. Как потом выяснилось, он был болен сыпняком. В детском доме вспыхнул тиф. Многие из воспитанников умерли.
Впредь каждого пропущенного через линию фронта выдерживали на карантине. А всему населению Ленинграда были сделаны прививки от брюшного тифа. Таким образом, гитлеровцам не удалось создать в городе новые очаги инфекции.
Но возникла новая угроза. В самые суровые дни блокады около 90% населения города страдало дистрофией второй и третьей степени, авитаминозами (от голода), повсюду была невыносимая грязь. На этом фоне среди населения распространилась массовая дизентерия. Эта болезнь тоже унесла много человеческих жизней.
Во время блокады в городе появилось так много крыс, что они стали внушать опасения. Прежде всего, они страшны как разносчики страшной заразы — чумной блохи. Я уже не говорю, что эти грызуны уничтожали большое количество продовольствия, которого и так не хватало. С крысами также велась борьба — их отлавливали. Ленинградские предприятия выпускали много различных конструкций крысоловок. Но механическим путём избавиться от обилия крыс не удалось. Тогда пошли на крайние меры, причём с санкции горкома партии и руководства медицинской службы, — уничтожать крыс, заразив их крысиным тифом, так как одна тифозная крыса, находясь в контакте с 10 здоровыми, заражает смертельной болезнью до восьми особей.
Благодаря настойчивому проведению целого ряда противоэпидемических мероприятий заразные заболевания пошли на убыль. Эти болезни имели место и на Кировском заводе.
Но, как бы ни было тяжело, жизнь всё-таки шла. По инициативе парткома и комитета комсомола завода наши комсомольцы и молодёжь готовили и отправляли воинам на фронт немало подарков. Стали вязать бойцам носки, варежки, шарфы. Особенно любили вязать в комитете комсомола: здесь у нас был какой-никакой, а свет от коптилки. Растопим печурку, сидят девушки, хоть еле живые, и вяжут. За работой и время идёт незаметно, так как работа для человека как лекарство. Если делает — живёт. Опустил руки — конец. А ведь условия были страшными. Голод делал своё дело — люди ежедневно гибли.
Был актуален вопрос о детишках, оставшихся сиротами. Наша комсомольская организация взяла шефство над восемью вновь созданными детдомами в Кировском районе. Ребят собирали по квартирам и отправляли в детдома. Брали туда и детей рабочих, находящихся на казарменном положении.
Комитет комсомола принял решение отметить и новый 1942 год. Как ни тяжело, а всё-таки решили устроить встречу молодёжи в подвальном помещении заводоуправления (там был заводской клуб — наиболее защищённое от артобстрелов место). Директор завода М.А. Длугач выделил продовольственный подарок — по маленькой 100-граммовой булочке и бумажный стаканчик (как для мороженого) фруктового напитка — каждому, кто был приглашён на вечер. Скромный, конечно, подарок, но в той обстановке богатый. Ребята были на седьмом небе. В зале был полумрак — горела одинокая лампочка от аккумулятора. Кино показать было нельзя, танцевать никто не в состоянии. С интересом прослушали выступление директора завода. Узнали, что наши эвакуированные заводчане-кировцы в тылу (Челябинск) разворачиваются вовсю, держат марку, выпуская для фронта новые танки Т-34 и КВ. Их силу враг скоро ощутит на себе. Потом выступили артисты Ленинградской комедии. Вид у них был жуткий. Худющие, как и все мы, костюмы на них висели, как на вешалке, голодные, но концерт дали от души.
22 ноября 1941 года стал днём рождения Ладожской военно-автомобильной магистрали — Дороги жизни. Её под обстрелами и атаками фашистских самолётов круглосуточно обслуживали более 20 тысяч человек. В их составе работал и отряд Кировского завода из 60 человек, в который вошли не только рабочие, но и начальники цехов, отделов, мастера. В первую блокадную зиму Дорога жизни действовала 152 дня. По ней в город было доставлено более 350 тысяч тонн различных грузов, в том числе продовольствие.
В марте 1942 года состоялся первый общегородской воскресник по очистке города. На него вышли десятки тысяч обессиленных ленинградцев. А 15 апреля стало главным праздником после блокадной зимы — на улицах появились 300 пассажирских трамвайных вагонов. Город в какой-то степени привели в порядок — убрали заносы снега, часть мусора, грязи, убрали и вывезли на городское кладбище тела умерших и убитых бомбёжками и артобстрелами, лежавшие на улицах, в подъездах, домах.
Начала налаживаться жизнь и на нашем Кировском заводе: появились вода, электричество, стала действовать канализация. Завод вновь заработал. И загранки, и новочугунолитейный цех — тогда самый большой цех завода, его гордость. Он увеличил выпуск снарядов, мин для фронта. Его металлурги, казалось, сделали невозможное, освоив плавку стального чугуна на термоантраците за неимением кокса.
На заводе была открыта парикмахерская, не стало заросших людей. Заработала баня, настоящая, с паром. Как она нужна была людям после долгой суровой зимы! Не стало на заводе и стационаров. Вместо них были организованы столовые усиленного питания. Сюда направлялись рабочие, ещё не оправившиеся от дистрофии, а таких людей были тысячи. Всем рабочим были выделены грядки земли для посадки овощей. В поредевших рабочих рядах появились новые люди, большинство из них — женщины и подростки.
Близость врага уже не вызывала страха, как это было осенью 1941 года. Кировцы привыкли к опасности и, казалось, не думали о том, что каждую минуту может начаться смертоносный артобстрел. Если о воздушных налётах врага население города своевременно предупреждалось, и люди успевали укрыться, то артиллерийский обстрел начинался внезапно. Батареи врага стояли в районе посёлков Урицкого и Володарского — рядом с городом. По звуку, издаваемому летящими снарядами, люди научились определять степень опасности. Если снаряд летит с воем, все знали: опасности нет. Снаряды же, которые должны разорваться где-то близко, не воют, а издают особый звук, похожий на шум падающего срубленного дерева. Они опасны. Тяжёлый снаряд легко пробивал цеховые стены метровой толщины, а его осколки — стальные фермы. При взрыве содрогались стены, повсюду распространялся запах гари. Помимо артобстрелов были бомбардировки, когда гитлеровцы с целью усиления психологического воздействия сбрасывали пустые бочки с отверстиями, рельсы.
В ночь на 19 января 1943 года по Ленинградскому радио было трижды передано сообщение о прорыве блокады. Ликованием встретили ленинградцы подвиг мужественных воинов Ленинградского и Волховского фронтов, нанёсших в течение семи дней уничтожающий удар по врагу, а осуществление операции "Искра" позволило освободить всё Ладожское побережье.