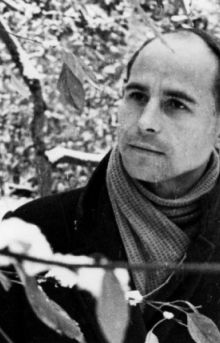Иван ИЛЬИЧЕВ. Анна Герман. Эхо любви. — М.: Алгоритм, 2013, 320 с., 3000 экз.
Говорят, что молния всегда бьёт в самые высокие деревья, что гениальные и даже "просто" талантливые люди, словно магнитом, "притягивают" к себе различные неприятности. Трудно выяснить, так ли это на самом деле — может быть, у тех, кто всегда на виду, банальным образом всё заметнее: и достижения, и невзгоды?
Но с великой певицей Анной Герман никаких сомнений быть не может. Уж её-то судьба била и ломала так, что тысячу раз стоит задуматься: а понимаем ли мы вообще истинную природу и масштаб явления этой хрупкой красавицы, прожившей на белом свете всего 46 с небольшим лет? И как могло получиться, что сегодня, через 30 лет после её смерти, песни Анны Герман не только ничуть не устарели, но даже утратили неизбежную, казалось бы, привязку к "своему" времени, "брежневской" эпохе 60-х—80-х годов?
Этническая немка, рожденная в Узбекистане, певшая на русском и польском языках, — Анна Герман воплощает собой какую-то уникальную и до сих пор не понятую до конца возможность единения разных народов и, наверное, всего человечества: не посредством пресловутого "плавильного котла", в котором кровно перемешиваются разные этносы и расы, а неслиянного и нераздельного духовного взаимопроникновения их культур, традиций, верований. Всего того, что было возможным, даже реальным, — но оказалось невозвратно утрачено на рубеже 60-х—70-х годов прошлого века.
Автор этих строк, несмотря на давность событий и тогдашний свой едва ли не младенческий возраст, очень хорошо и четко помнит один поразительный симптом этого перелома. До того люди в дороге: поездах, электричках, автобусах, — всегда старались подсесть поближе друг к другу, познакомиться и поговорить. После того, наоборот, — если была возможность, занимали места как можно дальше от своих попутчиков (конечно, если не были знакомы).
Та автомобильная катастрофа августа 1967 года, которая стала "точкой катастрофы" в жизни Анны Герман, видится сегодня не только её личной трагедией, а одним из проявлений глобальной "точки бифуркации", после которой всё развитие человечества пошло по вполне определенному пути, на котором "ангелу Анне" уже не оставалось, не было места: не как реальному человеку, а именно как воплощению совершенно иного, светлого и животворящего начала...
Похоже, она сама ощущала, как становится всё более и более чуждой окружающему миру, который буквально на её глазах очень быстро превращался в то, что через много-много лет назовут "матрицей". И все жестче, все определеннее каждой своей новой песней противилась этому "глобальному расчеловечиванию".
Она пела не о надежде — а о Надежде. Не о вере — а о Вере. Не о любви — а о Любви. О том, что и делает человека человеком, а не управляемой "единицей потребления". Ни один певец, ни один музыкант, ни один художник или поэт того времени, не говоря уже о времени нынешнем, — не сравнится с Анной Герман в этой её, казалось бы, бессмысленной и гибельной для неё войне. Сколько ангелов за эти годы предпочло стать падшими, но не погибшими, — не счесть. Имя им — легион. А погибших, но не падших можно пересчитать на пальцах. И у каждого из них — своё имя. В том числе — имя Анны Герман.
Потому и множатся сегодня ряды её поклонников, потому остаются вечно свежими и молодыми её, казалось бы, простые и непритязательные песни, потому так чудесно звучит её удивительный голос...
Книги, посвященные Анне Герман, которые составляет и выпускает в свет Иван Михайлович Ильичев, на мой взгляд, — одно из подтверждений этого, вроде бы далеко не очевидного, обстоятельства. Как свидетельствует Евангелие, "свет и во тьме светит, и тьма не объяла его". Песни Анны Герман — проявление как раз этого, неподвластного тьме, божественного света, озаряющего души и сердца людей. Красоты, согласно Достоевскому, призванной спасти наш погрязший в грязи и грехах мир.
"Всего один лишь только раз / Цветут сады в душе у нас. / Один лишь раз, один лишь раз..." Один лишь раз — но навсегда. Как сама Анна Герман.