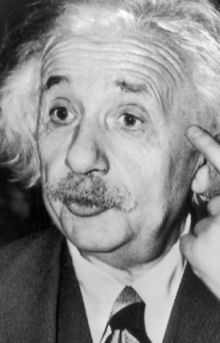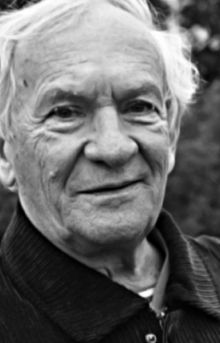Шорохов А.А. Бранная слава. Военная проза. Фронтовой дневник. Стихи / Алексей Шорохов. — М.: Вече, 2024. — 384 с.: ил. — (Zа ленточкой)
«Из пургового кашля-смрада»
Не просунет когтей лазурь
Из пургового кашля-смрада;
Облетает под ржанье бурь
Черепов златохвойный сад.
Процитированная нами малая поэма Сергея Есенина «Кобыльи корабли» была написана в 1919 году и вошла в сборник «Харчевня зорь». Местом выхода сборника значилась Москва, но фактически она вышла в Харькове на Украине.
Местом выхода книги Алексея Шорохова также названа Москва, но в действительности она создавалась в тех пространствах (читатель, ждавший предлога «в» — на, вот возьми его скорей!), где автор вдыхал горький пороховой дым, следуя зову беспокойных сердца и духа. Даже сквозь мирные строки фактическое нахождение в других локациях всегда переносило туда, где будоражила кровь и разум «бранная слава». Но, конечно, сейчас я не об этом, не о географическом буквоедстве, тесно связанным с геополитическим людоедством, а о том, что в нашем общем космосе сейчас происходит нечто — «близкое по крови».
Вести «оттуда», из другого — не мирного — мира — не просто слова или размеренные размышления — это останется полем деятельности для читателя. А возможно прорастёт вечной булгаковской травой (см. ниже).
Рисуя в «Белой гвардии» страшное время, воспроизведённое Сергеем Есениным в «Кобыльих кораблях», в 20-й главе романа Михаил Булгаков писал: «Велик был год и страшен год по рождестве Христовом 1918, но 1919 был его страшней». А дальше им будут написаны те слова, обращённые к началу века XX, над которыми сегодня нам, читателям и писателям начала века XXI, придётся уже размеренно, с погружением во тьму и тишину размышлять, независимо от местонахождения, — и, конечно, перелистывать страницы книги «Бранная слава». Действительно — трудно сказать лучше нашего «мистического» классика, который узрел великое молчание вечности и, более того, воплотил его на похожем материале. Всё это уже когда-то было:
«А зачем оно было? Никто не скажет. Заплатит ли кто-нибудь за кровь?
Нет. Никто.
Просто растает снег, взойдет зеленая украинская трава, заплетет землю… выйдут пышные всходы… задрожит зной над полями, и крови не останется и следов. Дешева кровь на червонных полях, и никто выкупать ее не будет.
Никто».
Так молчит кровоточащая земля, так молчит сотрясаемый ударами воздух, молча пылает огонь в некогда тихих степях.
Silentium.
Но человек, готовый отдать за Родину жизнь, находит святые и простые ответы, становясь ближе к краю — там, где наводка точнее всего — там, где наводится резкость на суть вещей и событий, где одно переходит в другое и срастается с ним, потому что никогда и не было раздельным. Об этом мы читаем в книге Алексея Шорохова:
Где-то становится летом
Парень, сгоревший в броне.
Только ведь я не об этом,
Я не о том совсем… Не
Понимая, откуда
В нас эта вечность течёт,
Наспех прощаемся с чудом,
Свой не жалея живот (Здесь и далее курсив мой — И. К.).
«Поле, поле, кого ты зовешь?»
Самое сложное — облечь оглушающую тишину в слова: смело, не откладывая для того, чтобы «отстоялось», прошло проверку временем. Впрочем, поле бранное, война и мир, война и мiр — вечные темы, ждущие своего воплощения в каждом новом слое времён, ждущие певучего выразительного слова и поющего сердца автора. Кстати, ещё один смысловой слой упомянутой поэмы Сергея Есенина — уже «чеховско-блоковский»:
Поле, поле, кого ты зовешь?
Или снится мне сон веселый —
Синей конницей скачет рожь,
Обгоняя леса и села?
Нет, не рожь! скачет по полю стужа,
Окна выбиты, настежь двери.
«И мало-помалу на память приходят степные легенды, рассказы встречных, сказки няньки-степнячки и всё то, что сам сумел увидеть и постичь душою. И тогда в трескотне насекомых, в подозрительных фигурах и курганах, в глубоком небе, в лунном свете, в полёте ночной птицы, во всём, что видишь и слышишь, начинают чудиться торжество красоты, молодость, расцвет сил и страстная жажда жизни; душа даёт отклик прекрасной суровой родине, и хочется лететь над степью вместе с ночной птицей».
Воззвание чеховской степи — «певца! певца!» находит отклик в чутком писательском сердце. И, надо сказать, отклик этот разножанров и многоаспектен.
Структура книги включает и прозу (рассказы и повесть), обжигающую публицистику (в первую очередь, о геополитических причинах текущих военных действий, о происходящем с христианской позиции), статьи, очерки, фронтовой дневник (с января по октябрь 2023 года), репортаж, эпистолу, литературную критику, стихи, иллюстрации.
Но я не столько об этом, потому что даже полный путеводитель по содержанию как констатация голого факта ничего не даст нам без личного знакомства с книгой.
Главное, что «певец» явился. И явил нам не только «подробности» внешней жизни — военной ли, мирной ли. Этот певец как будто вышел из себя самого, показав нам умирание ветхого тленного человека и рождение нового — их диалог слышится в стихотворении «Вязаный шарфик на чёрном пальто…»: 1997 и 2022 — тот, кто чувствовал, что когда-то придётся перейти точку возврата и, возможно, был внутренне готов к этому, и тот, кто её перешёл. Этот певец, этот новый человек, показал нам миг одиночества на войне, протянувшийся на 384 страницы, показал не внешнюю, а внутреннюю свободу — выбирать самому, где ему находиться в тот или иной момент, выбирать, чему, посвятить свою жизнь. А может, и нет никакого выбора…
В этом смысле путь Алексея Шорохова был похож на путь Леонида Бородина — оба оказались в ситуации «без выбора». Оба писали так же, по касательной, о пребывании «там» (у каждого это «там» было своим) — через человека, событие, через «послевкусие» — переоценку и переосмысление многих вещей, избегая внешних, лобовых ракурсов. И если Леонид Бородин парадоксально формулировал свою мысль как «полезно посидеть» или «сидеть было интересно», вспоминая о цвете русской интеллигенции (в хорошем смысле), окружавшем его в заключении, с которым они «прожевали» практически все важнейшие жизненные темы, то Алексей Шорохов сходным образом пишет о своём военном периоде как о «пользе» для духа.
«О, кого же, кого же петь…»
Задавшись есенинским вопросом:
О, кого же, кого же петь
В этом бешеном зареве трупов? (поэма «Кобыльи корабли»)
получим сегодняшний ответ на него — книгой Алексея Шорохова. Можно сказать, написанной «в грозы, в бури, в житейскую стынь. При тяжёлых утратах. И когда тебе грустно» (С. Есенин, поэма «Чёрный человек»).
Это взгляд на отчизну «без укоризны», бесконечно любящий взгляд поэта, такой же, каким смотрел на разрушенный, голодный и холодный Петроград времён Гражданской войны Сергей Есенин, видя в раздутых трупах лошадей и сидящих на них воронах «кобыльи корабли»:
Если волк на звезду завыл,
Значит, небо тучами изглодано.
Рваные животы кобыл,
Черные паруса воронов.
Прошедший военные действия человек не утратил любящего взгляда ни по отношению к людям и событиям, ни по отношению к отечественной истории. Особенно много культурно-исторического контекста в рассказах о любви — в книге всё очень тесно увязано на уровне смыслов.
Так, в рассказе «Балканская осень» мы узнаём изнанку международного кинофестиваля и особенности национального поведения культурных деятелей разных стран.
В главе «Волга-Волга» повести «Бранная слава» читаем об истории Ипатьевского монастыря, где, по мнению автора, «всё начиналось — всё, за что мы сейчас воюем». Там же главный автобиографический герой сообщает нам о том, что «…Иван Грозный основал Бахмут, Алексей Михалыч Харьков и Сумы, а Екатерина Великая (…) Мариуполь».
Сочинения Алексея Шорохова сегодня, конечно, не могли быть изданы на Украине, как когда-то есенинский сборник «Харчевня зорь», но написаны они была именно на той земле, на которой теперь русские солдаты «строят себе дом» на передовой. Это не «бытоулучшательная партия» (как подмечает автор, отсылая нас к выражению св. Серафима Саровского) — это умение быть верным себе даже на огневом рубеже, ведь «чтобы стоять на плечах великих, нужно повторять вертикальную линию, которую они держат. Вся наша история — битва за право прямохождения».
Надо сказать, Алексей Шорохов действительно выдерживает духовную вертикаль, заявленную в подобном же державинско-кузнецовском («Я — связь миров») ключе в «Столбцах» Николая Заболоцкого, призывая на подмогу русскую культуру. Автор никогда не остаётся один. С ним вместе стоят за Отечество Пушкин и Лосев, Евангелие и вся русская история.
«Звери, звери, приидите ко мне»
«Есенин мыслит животными», — в 1921 году написал исследователь творчества и биограф Маяковского В. О. Перцов о «Кобыльих кораблях» Есенина в газете «Новый путь» (Рига, 1921, 3 июля, № 123). Действительно, по контрасту с Маяковским, который вообще не мыслил в направлении природного мира (можно найти единично-ущербные отсылки, вроде «щена», «муравьишек» и «травишки») Есенин выглядел именно так:
Звери, звери, приидите ко мне
В чашки рук моих злобу выплакать!
Не пора ль перестать луне
В небесах облака лакать?
Сестры-суки и братья кобели,
Я, как вы, у людей в загоне.
Не нужны мне кобыл корабли
И паруса вороньи.
Вчитываясь в эту малую поэму Есенина, понимаешь вдруг, почему он написал «приидите» — это ведь отсылка к молитвенным словам «Приидите, поклонимся…», которые, в свою очередь, направляют нас к библейскому «Приимите, ядите, сие есть Тело Мое, за вас ломимое». А позже поэт обыгрывает эту аллюзию темой «поедания» плоти и озверения людского на фоне петроградского голода и военных действий. Но я не об этом сейчас.
В противовес чёрным вороньим парусам — через рассказ, открывающий книгу Алексея Шорохова, к нам приходит из гумилёвского «далёка-далёка», подобный «цветным парусам корабля» и благоухающий «сказками неведомых стран», жираф.
Нелепый, нездешний, прекрасный. Дарящий надежду и рождение будущего — дающий любовь и уверенную стойкость — поднявший небесный парус очерствевшей души.
Можно, испытывая тупую кровожадную алчность, ради жестокой забавы, захотеть полакомиться «жирафятинкой», разбавив фантасмагорией дно смрадных военных будней.
А можно прийти и съесть эту плоть в духе, приобщившись в духе к таинству чуда, к благодати, к великому древу, проросшему не просто кровью, но самой жизнью — будущей жизнью.
В рассказе «Жираф» волшебное сказочное число три своим появлением совершает чудо, и ранение (с кодом 300) превращается в 3 300 — вес будущего младенца. «Тяжёлый туман» военных действий немного рассеивается невесомым, но отчётливым ощущением, что чудесное, многоцветное, невероятное и нереальное — иной раз реальнее самых жёстких и чёрных реалий, а жизнь и любовь по большому (совсем не математическому) счёту всегда побеждают. Умеющий «слушать сердцем», умеющий видеть любые события глазами бездонной любви может выразить это в стихах или прозе, но всегда будет прав той могущественной правдой, которая соединяет Творца и творение.
И вот тут по-настоящему понимаешь, что избранные судьбой художники слова всегда «летят» на эту Землю «с высоты» (как писал и пел о них, о своих собратьях, ещё один поэт) неслучайно:
Он пришёл целовать коров,
Слушать сердцем овсяный хруст.
Глубже, глубже, серпы стихов!
Сыпь черёмухой, солнце-куст! (С. Есенин «Кобыльи корабли»).
Кстати, 40 лет назад, в 1984 году другой поэт, наш современник, написал (и тоже пропел) вот эти строки, которые невольно вспомнились при чтении рассказа «Жираф»:
Я ищу таких, как я,
Сумасшедших и смешных,
сумасшедших и больных
А когда я их найду —
Мы уйдём отсюда прочь,
мы уйдём отсюда в ночь —
Мы уйдём из зоопарка! (Егор Летов)
На этом аккорде действительно хочется «увести из зоопарка» всех чувствующих и думающих. Поэты мыслят не животными, поэты мыслят Жизнью. Просто каждый из них должен когда-то встретить своего жирафа.
«Буду петь…»
Буду петь, буду петь, буду петь!
Не обижу ни козы, ни зайца.
Если можно о чем скорбеть,
Значит, можно чему улыбаться.
В бушующем, дышащем огнём и порохом мире автор книги находит, чему улыбаться. Он не обидел бы никого из братьев наших меньших, включая жирафа, попадись он ему вживую на жизненном пути. Но я даже не об этом. Важнее, что Алексей Шорохов находит лучи света, неожиданным чувством освещающие самые тёмные углы застывшей на краю жизни души. Он думает о том, что чувствует ребёнок в утробе матери — тонко ловя все повороты её настроений и переживаний о будущем, как в рассказе «Младенца Георгия…». Он думает о смысле русской истории, о воинском братстве (попутно воздвигая нерукотворные памятники встреченным на его пути героям) и обо всех иных, кто попадает в его поле зрения. Вся повесть «Бранная слава» — о людях: Соболь, Яша, Волк, Викинг и др. О мужчинах: «Петруччио» и герои «Балканской осени» и «Колыбельной тьмы» — и женщинах: Милене («Балканская осень») и Даше (глава «Волга-Волга» из повести «Бранная слава»). Он видит красоту мира и человека и готов восхищаться этим в самых, казалось бы, неподходящих ситуациях. Он наполнен любовью и желанием выразить всю благодать, сходящую на него, в живом точном слове.
«Всё познать, ничего не взять»
Кажется, всё это уже когда-то было. И похожими ситуациями, похожими суждениями, сомнениями, страхами и побеждающей их любовью день сегодняшний зеркалит нам эпоху примерно столетней давности.
В сад зари лишь одна стезя,
Сгложет рощи октябрьский ветр.
Всё познать, ничего не взять
Пришёл в этот мир поэт («Кобыльи корабли»).
А вот Берлин, 1921 года, где выходит военный дневник Романа Гуля «Ледяной поход (с Корниловым)». Читаем в главе «Дома»:
«Я несколько дней живу у себя, в семье, с любимыми людьми. Я не хочу ничего. Я устал от фронта, от политики, от борьбы. Я хочу только ласки своей матери. Я помню, я думал: “истинная жизнь любящих людей состоит в любовании друг другом”. Я чувствовал всю шкурную мерзость всякой “политики”. Я видел, что у прекрасной женщины Революции под красной шляпой, вместо лица, — рыло свиньи. Я искал выхода. Я колебался. В душе подымались протесты и сомнения, но я пытался убедить себя: “все это плохо, но не надо отстраняться, надо взять на себя всю тяжесть реальности, надо взять на себя даже грех убийства, если понадобится, и действовать до конца...” И мне показалось, что я себя убедил... (…)
Был сочельник. Звонок. Я удивлен: входит прапорщик нашего полка К. Он сибиряк. Зачем он приехал? Я догадываюсь. К. разбинтовывает ногу и передает мне письмо моего командира.
“...Корнилов на Дону! Мы, обливаясь кровью, понесем счастье во все углы России... Нам предстоит громадная работа... Приезжайте. Я жду Вас... Но, если у Вас есть хоть маленькое сомненье, — тогда не надо...”
Я напряженно думаю. День, два. Сомненье мое становится маленьким, маленьким. Может быть, я просто “боюсь”? — спрашиваю я себя. Может быть, я “подвожу теории” для оправдания своей трусости?.. как зверски и ни за что дикие люди убили М. Н. Л. ... А Шингарев? Кокошкин?.. Их семьи!? Тысячи других?.. Нет, я должен, и я готов. Я верю в правду дела. Я верю Корнилову! И я поеду. Поеду, как ни тяжело мне оставить мать, семью, уют. И одновременно со мной думает и страдает мама.
Я решил... Мама готова перенести новую боль...»
Пронзительная тональность фраз Романа Гуля, личные «слишком человеческие» искренние переживания, их общий смысл, боль за самых близких людей, невозможность остаться в стороне, вера в правоту и святость своего дела — как это похоже на фронтовые записи Алексея Шорохова, на его стихи и прозу. Приведём только лаконичные стихотворные строки: «Боюсь, что не смог, что не сдюжил! — Сказать, подойти, приобнять, «Вот так и останемся вместе Мы целую вечность стоять Живые и те, что «груз двести» («Памяти “Барс-19”», 2022).
И как не говорить после этого о едином поле русской литературы, взыскующей только общей истинной идеи. А может это не поле, а степь нашего единства — с общими чаяниями, общими чувствами, мыслями и пророчествами. Тут и Пушкин, и Тютчев, и Достоевский. Перечитаем ещё раз осенний дневник Фёдора Михайловича 1877 года:
«Не будет у России, и никогда ещё не было, таких ненавистников, завистников, клеветников и даже явных врагов, как все эти славянские племена, чуть только Россия их освободит, а Европа согласится признать их освобождёнными»;
«Начнут они непременно с того, что… объявят себе и убедят себя в том, что России они не обязаны ни малейшей благодарностью; напротив, что от властолюбия России они спаслись при заключении мира вмешательством европейского концерта. А не вмешайся Европа, так Россия проглотила бы их тотчас же, “имея в виду расширение границ и основание великой всеславянской империи на порабощение славян жадному, хитрому и варварскому великорусскому племени”»;
«Особенно приятно будет для освобождённых славян… трубить на весь свет, что они — племена образованные, способные к самой высшей человеческой культуре, тогда как Россия — страна варварская, мрачный северный колосс, даже не чистой славянской крови, гонитель и ненавистник европейской цивилизации»;
«Все эти освобождённые славяне с упоением ринутся в Европу, до потери личности своей заразятся европейскими формами, политическими и социальными, и таким образом должны будут пережить целый и длинный период европеизма, прежде чем постигнуть хоть что-нибудь в своём славянском значении и в своём славянском призвании в среде человечества».
Полтора века назад — но огненные буквы русского классика, разрывая фальшь толерантности, жгут и сегодня, почище запрещённых кассетных.
Вот так по нашей литературной степи, всегда богато наполненной жизнью, мерцающей, искрящей «русскими огоньками» истины — глаз не оторвать от ослепительной красоты — движутся не то повозки с Егорушками, «русскими мальчиками», не то «степные кобылицы», не то изысканные жирафы. Так и простирается она, щедро окормляя всех, кто входит в её пространство, славно течёт в веках.
И что же такое слава? Медные трубы, пропевшие о личной победе? Величавая торжественная память? Твоё «течение вечности»?
Но я не об этом, конечно. Важнее, что посреди безбрежной степи русской литературы у нас сегодня есть повод без бранного слова, а искренне и с честью поговорить о бранной славе — «не ради славы, ради жизни на земле». Кажется, это сама «…душа даёт отклик прекрасной суровой родине, и хочется лететь над степью вместе с ночной птицей».
Нам остаётся только услышать сердцем.
Ирина Калус
Илл. Соловьева Е. А.