28 августа 1925 года родился Юрий Трифонов, советский писатель, переводчик, прозаик, публицист, киносценарист. Автор произведений «Обмен», «Другая жизнь», «Предварительные итоги», «Дом на набережной», «Старик», «Время и место» является одной из ключевых фигур литературы 60-70-х годов XX века. Ко дню 90-летия мастера «городской» прозы в московском музее "Дом на набережной" представят новую книгу "Отблеск личности", где под одной обложкой собраны воспоминания друзей писателя, учеников, представлены уникальные страницы его дневников и рабочих тетрадей с комментариями его вдовы Ольги Трифоновой.
Фото: Юрий Иванов/РИА Новости
Экспертные оценки
В литературе нет абсолютного устаревания, какие-то фигуры сначала устаревают, потом возрождаются. Например, в XVIII веке Шекспир считался дикой ерундой, а в XIX произошло его мощнейшее возрождение. Трифонов – не Шекспир, но тем не менее. Сегодня интерес к чтению такой литературы, да, как бы замер. Но кто знает, что будет в будущем.
Мы сейчас находимся в процессе избавления от морока, который можно по-разному называть, я бы назвал этот морок дискурсом журнала «Огонёк». Этот дискурс конца 80-х годов царил здесь последнее двадцать пять лет. Сейчас мы от этого избавляемся. И должны появиться новые языки, в том числе для объяснения семидесятых годов, где не будут работать оппозиции, предложенные «Огоньком» - советское/антисоветское, официальное/неофициальное. Нужно создавать новые языки, в которых бы включалась другая логика понимания этого периода. Например, можно понимать Трифонова как некий поздний извод русской классической литературной традиции. При этом на Трифонова очень сильное влияние оказал американский модернизм, в частности, Фолкнер. Особенно на поздние его романы. Я вспоминаю роман «Старик», который начинается с описания бесконечной московской жары 72-го года и это очень похоже по стилистике, по интонации на начало «Шума и ярости» Фолкнера. Этот роман примерно в то же время появился в блестящем переводе в «Иностранной литературе». То есть влияние модернизма, американского прежде всего, было невероятно интенсивным в тот период не только на Трифонова, но и, скажем, на Аксёнова. В меньшей степени, конечно, на так называемый почвеннический фланг. Хотя косвенно и там американский модернизм влиял. В шестидесятые - начало семидесятых – публикуются очень важные переводы, образуются переводческие каноны - Пруст, «Моби Дик» Мелвилла, Фолкнер. Это важнейший, редко учитываемый факт - влияние на русскую литературу мощных переводов. То есть стилистически влияние модернизма на Трифонова или, допустим, на Белова было очень интенсивным. Получается, стилистически мы имеем один период, в котором есть разные оттенки. И идеологические оппозиции здесь не важны, они не выполняют конструктивную роль.
В семидесятые появляется очень важный момент, связанный с кризисом советской утопии и различные варианты ответа на этот кризис. Трифоновский ответ – это такой поздний экзистенциализм, уход в себя, в переживание истории, в её пересмотр и так далее. Ответ Белова или деревенщиков в целом – это ответ, который сегодня выглядит более актуальным. Я бы сказал, что это уход в такое «экологическое сознание». Русская деревенская проза – это тема местного, любви к малой родине. Если же это урбанистический сюжет, то любовь к своему городу, району. Вот это, конечно, ответ на зарождающийся глобализм. Потому что семидесятые – это начало глобализации, рассвет массовой культуры и так далее. И на это следуют очень живые ответы. Вот не самая центральная, но очень важная фигура почвеннической литературы – Владимир Солоухин. Он своими «Чёрными досками» или «Третьей охотой» маркирует мощнейшие тренды того времени. Во-первых, это фанатическое увлечение иконописью и вообще русской стариной. В это время начинает функционировать Золотое кольцо как элемент важнейшего внутреннего туризма СССР, огромные массы людей проходят через древние города. И «Третья охота», к которой примыкает повесть «Владимирские просёлки» - это увлечение природной темой: грибы, различные виды натуральных продуктов, приготовление еды по местным, локальным рецептам. И это тоже становится важным трендом, потому что параллельно развивается дачно-приусадебная культура и культура консервации во всех смыслах – тут и консервация плодов, овощей, фруктов и консервация традиции. Когда мы говорим о Трифонове, как о певце семидесятых, надо иметь в виду телесность, психосоматичность его практик. Это и описание жары или описание, например, механизма подавления казацкой стихии на юге России в «Старике» – это очень эмоционально, почти физиологически воздействовало на читателя. Это была совершенно другая картина мира, гораздо более сложная, чем предлагалось в официальных версиях.
Трудно сейчас говорить о том, что Трифонова можно сходу брать и перечитывать, потому что для современного читательского опыта он очень велеречив, очень многословен. И вся литература семидесятых такова. Но если наладить правильную читательскую оптику, то можно вычитать очень современные и очень интересные вещи. Я бы определил состояние этой литературы как «под паром», она ещё не проросла живым интересом, но совсем и не умерла. И я думаю, время семидесятнической прозы скоро придёт. Особенно деревенской прозы, потому что это просто кричащая актуальность. Например, книга Белова «Лад» - о космосе крестьянской жизни – очень актуальна. Или огромный абрамовский цикл. Но и интеллигентская, экзистенциалистская проза того же Трифонова тоже будет набирать популярность. Без идеологической оппозиции, которая сегодня ничего не позволяет объяснять в советских семидесятых.
Юрий Трифонов заинтересовался моими публикациями и предложил встретиться в Доме литераторов. А у меня не было билета, я не был вхож. Он говорит: «Ничего, я скажу, чтобы вас пропустили. Как я вас узнаю?». А я только что вернулся из поездки по деревням, где накупил всяких коняшек, расписных яиц, поэтому сказал: «Юрий Валентинович, я буду с расписным яйцом». В вестибюле он меня узнал - я стоял как канделябр и держал это яйцо. Трифонов провёл меня в зал, посадил за столик, что около резного готического окна, и мы поужинали. Он расспрашивал меня о моих намерениях, о жизни. Он тогда формировал себя вокруг сонм учеников, молодую среду, занимался такой социальной педагогикой. Трифонов попросил, чтобы я собрал все свои рассказы и принёс ему. Я передал ему эту кипу, а Юрий Валентинович отнёс её в издательство, и скоро вышла моя первая книга «Иду в путь мой». Трифонов написал предисловие, давая ей старт. Поначалу он хотел назвать предисловие именно «Человек с яйцом». Я умолял не делать этого, потому что сразу бы прослыл как «человек с яйцом». Когда-то Николай Воронов, а он был маленький, толстенький, написал трогательный роман, который назывался «Лягушонок на асфальте». И с тех пор его все так и звали – лягушонок на асфальте. Юрий Валентинович сжалился и дал выспренное название - «Страсть постижения Родины». Одним словом, первая моя книга претворялась предисловием Трифонова, который был совершенно противоположен мне по стремлениям, по задачам, но тогда он этого ещё не понимал. Я сам тогда ничего не понимал в своей будущей судьбе.
Когда Трифонов умер, гроб с телом выставили в дубовом зале ЦДЛ, что бывало чрезвычайно редко. Обычно прощания проходили в соседней малой зале. Трифонов лежал в вытянутом гробу, усыпанном цветами, и его большая голова с такими негроидными губами находилась как раз на том месте, где была когда-то его живая голова, когда мы с ним первый раз ужинали. И было так странно, что одно и то же пространство (во Вселенной, а не в Доме литераторов) занимает сначала голова живого, говорящего, с блестящими глазами человека, а потом его же мёртвая голова.
Ещё с Трифоновым вспоминается такая история. Помню, как однажды за наш столик подсела Ольга Мирошниченко. Крепкая, сочная баба, с большим, тяжёлым, но очень эффектным лицом, которая была женой писателя Георгия Берёзко. Это был уже очень старый, лысый, со склеротическими венами на лице, с горбатым носом, писатель, написавший военный роман «Ночь полководца». И он взял в жёны кубанскую казачку Ольгу, чтобы насладиться на старости лет женской плотью. Он её выводил и страшно гордился тем, что появляется в Доме литераторов с такой сильной женщиной, дабы все думали, что он ещё действительно полководец. Потом он её отправил в Испанию в туристическую поездку. И в туристической группе оказался Трифонов. Они там познакомились, и знакомство кончилось тем, что Ольга бросила своего старого и уже никому ненужного мужа и вышла замуж за Юрия Валентиновича. И стала сразу светской либеральной дамой, а до этого, естественно, была патриотической, кубанской, «антисемитской». Это был, конечно, удар для Берёзко. Он исчез из ЦДЛ, говорили что он болен, что умирает, и постепенно забыли про него.
В одно прекрасное утро я проснулся от телефонного звонка. Мне сообщили, что умер Трифонов. Вечером, как всегда после работы дома, я отправился в Дом литераторов, чтобы поужинать с кем-то, выпить вина. При входе в вестибюле стоял штатив и на нём некролог: умер Трифонов, лицо в чёрной траурной рамке. И когда я вошёл в зал, где находился бар, то увидел Берёзко. Он был молод и весел, у него сверкали глаза, он улыбался. Он подзывал к себе посетителей, поил всех за свой счёт. Это был триумф старого самца, который обыграл своего соперника, сопроводив его в мир иной. Может быть, это был последний выход в свет этого писателя. Потом он снова исчез и очень скоро умер. Но в ЦДЛ был победитель. В этом было что-то удивительно биологическое, животное. А Оля стала ключницей. Переехала в Дом на набережной, сейчас это такой музей репрессированных. Кстати, отец Трифонова был очень крупным партийцем ещё ленинской волны, который был расстрелян. После чего Сталин дал сыну расстрелянного соперника Сталинскую премию за повесть «Студенты». И Трифонов взял эту премию, в чём было много инфернального, шекспировского.


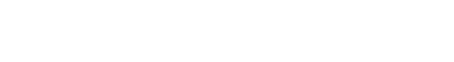


Юрий Трифонов был замечательный бытописатель. У него нет ни одной самой мелкой детали, выдуманной, а не увиденной в жизни. Всё - совершенная правда. Его герои и ситуации - строго из жизни: да, так именно и жили. То, что он пишет по истории 20-30-х годов, не кажется сегодня особо интересным, а вот ставшие сегодня историей 70-е годы – это замечательно. Трифонов – великий бытописатель брежневского Застоя.
Уверена: он сам не понимал, что он открыл и описал. А описал он ни много-ни мало смерть советского человека. Он, по существу дела, дал в художественной форме ответ на вопрос: почему пала советская жизнь? Он не дожил до её падения, но он увидел и показал, что советский человек перестал существовать. Нет, упаси Боже, он не стал антисоветчиком. Дело обстояло гораздо хуже: он стал - обывателем. Тип советского человека, странным образом, не противостоит антисоветчику. Антисоветчик (если не по найму западных спецслужб, а по убеждению) – это может быть человек, протестующий против косности мысли, которая царила в СССР эпохи упадка, против атмосферы серости, бюрократизма, жизни по инерции. Так что антисоветчик может быть по душевному складу и направленности мысли довольно близок к эталонному советскому типу – к Павке Корчагину. Подлинной противоположностью советскому человеку является обыватель. Вот он-то и восторжествовал в эпоху, впоследствии названную Застоем. Он-то, обыватель, с радостным гиканьем свалил советскую жизнь. А советский строй не может существовать, опираясь на обывательские массы. Он жив только в том случае, если есть некая критическая масса людей, для которых подлинно «жила бы страна родная и нету иных забот». Пока это было – советский строй стоял прочно, когда не стало – пал. Вот как именно «не стало» и рассказывает Трифонов. Он подробно и обстоятельно показывает «физиологию», как говорили в XIX веке, советского обывателя.
Несомненно, о мещанстве как явлении и психологии обывателя в советской литературе писали многие – от Маяковского до Зощенко и далее, как говорится, по всем пунктам. Но там были какие-то особые персонажи, носители обывательского сознания. Они однозначно были объектом критики, их высмеивали, критиковали. («Страшнее Врангеля обывательский быт»). У Трифонова – иное. У него обыватели – все. А раз обыватели все – значит никакого обывательского сознания и нету вовсе. Ведь нечто существует только в противопоставлении иному. Берёза существует только потому, что есть осина и ёлка. А не будь их, существуй на свете только берёзы, они бы немедленно перестали быть берёзами и были бы просто деревьями, и больше ничем. Точно так и с обывательским сознанием. Если такое сознание у всех, значит, это просто нормальное сознание нормального человека – и больше ничего. То есть такая стала норма.
Трифонов прекрасно описывает эту норму. Его герои по уши погружены в быт, в какие-то склоки, свары – отношения. Равным образом на работе и дома. В НИИ кто-то с кем-то не разговаривает, кто-то кого-то подсиживает, кто-то формирует свою «кликочку»… Дома ссорятся невестка со свекровью, тёща уедает зятя, даже за праздничным столом недружелюбно пикируются две интеллигентные женщины-родственницы.
Трифонов и сам оказался захлёстнутым этой бытовой стихией, сам попал во власть этого стиля. В те же годы он написал книжку о народовольцах – «Нетерпение», она вышла в Политиздате в серии «Пламенные революционеры»; так что изображать Трифонова чуть ли не диссидентом и жертвой режима не надо: нормальный был советский писатель, вполне респектабельный, успешный, как сказали бы сегодня. О народовольцах, понятно, можно было написать по-разному. Например, сочинить идеологический роман – с теоретическими спорами, да хоть с философскими снами. Но Трифонов верен стилю эпохи: он пишет чисто бытовой роман с бытовыми же склоками и «отношеньками», как ныне выражаются в интернете.