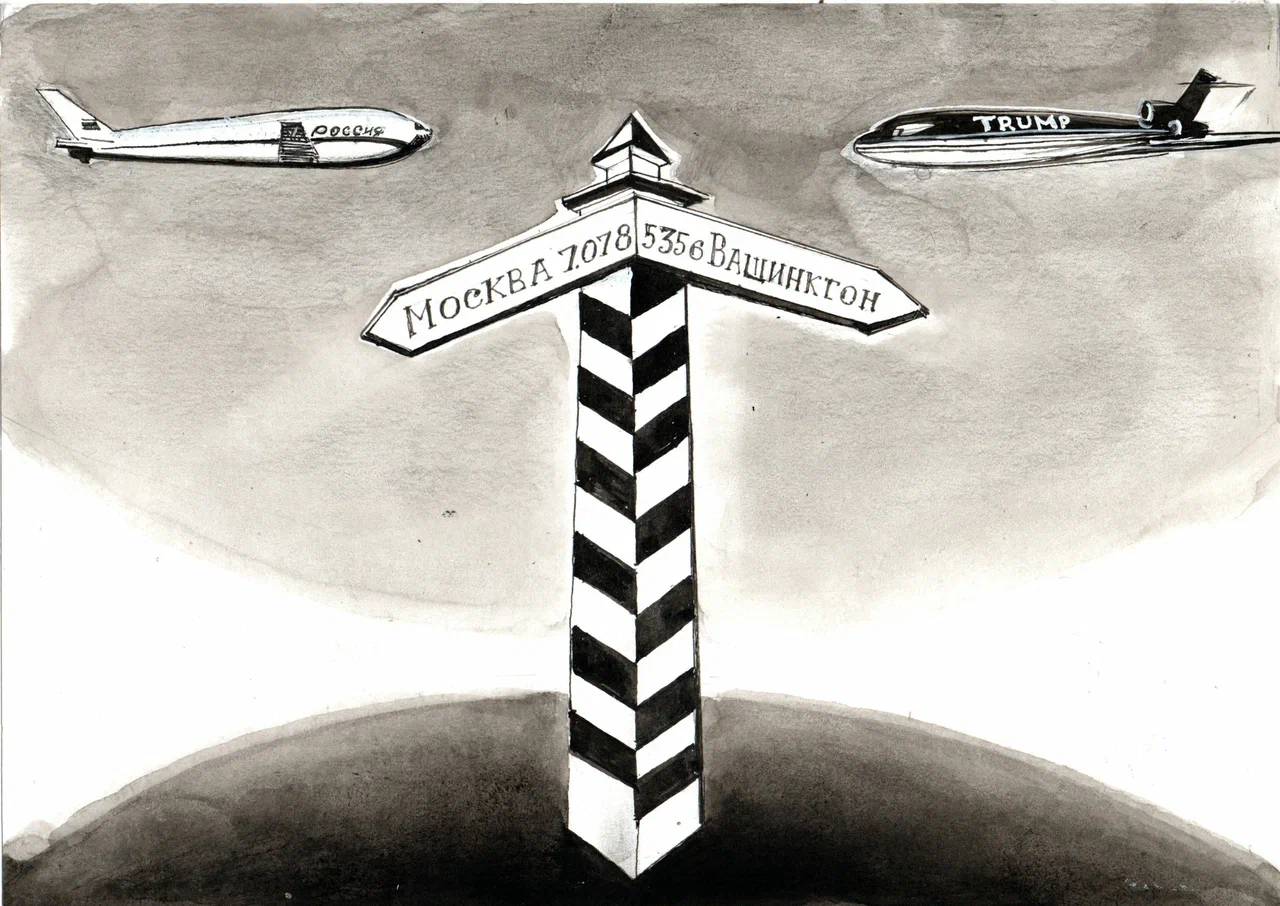*
В первый свой лагерный день, возвратившись в колонне zwa-a-zwa в барак отмытой от дорожной грязи и бегло осмотренной врачом, Феодора застала возле «своих» нар коренастого, заплывшего жиром мужчинку, заросшего рыжей бородой, с франциосифскими усами. На его толстом носу удерживалось железной пружинкой большое пенсне. Он был в офицерской шинели без знаков отличия; обнажённую саблю и тонкую, точно спица, металлическую трость держал в согнутом локте левой руки, правой рылся в вещах Скорых. Её баул, выпотрошенный на тюфяке Марты, валялся у его ног раскрытым среди развороченных узлов Котровичей, профессора и его внучки. Не взглянув на новеньких, толстяк снизошёл до пояснения, придав своему голосу сладкую тональность и обращаясь к женщинам: «Для вас, вельмишавные пани арестантки, я пан Чаровский. Не турбуйтесь, то ревизия, первая для вас, но не останняя. Останняя будет у вашей домовине, щоб чого не вкрали на той свит. Забороняется тримать при себе револьверы и ножи, табак, кокаин, подмётные письма, золото, спирт, сирныки, бильше пятьдесят крон грошей (останнее – в депозит), тощо, шо у списку на дверях. Хто з вас пани курва, раджу повесить фиранки по боках лижка чи домовиться за плату про комнату-сепаратку. Зрозумило?»
В ответ установилось угрюмое молчание. Другие надзиратели вели обыск по всему бараку. Люди, наслышанные в дороге о порядках в Талергофе, старались ни жестом, ни гримасой лица, ни, тем более, словом не раздражать тех, в чьей власти, никаким законом не ограниченной, никем не контролируемой, они оказались. Редкие спорщики поплатилась двадцатидневным арестом, а одной сельской женщине, пытавшейся вырвать у зиммеркоменданта жестяную коробку из-под чая с накопленными в ней монетами, за разбитый ею в пылу потасовки нос на официальном лице грозило подвешивание за ногу.
Феодора лишь фыркнула с презрением, то так выразительно, что только каменный столб не почувствовал бы себя задетым. Лицо толстяка раздулось вдвое обычного прихлынувшей кровью, а правая рука заметалась в выборе рукояти – сабли или трости. Но тут кто-то из надзирателей позвал его: «Можно вас, герр обер-лейтенант запаса?» Отходя от Феодоры, бывший обер-лейтенант бросил: «Ты от меня никуда не денешься, повия».
К удаче зиммеркоменданта Чировского, Скорых не знала значения слова «повия» (так называли девиц лёгкого поведения в некоторых губерниях Южной России и в русинском Прикарпатье). Конечно, Феодора не стала бы срывать свой гнев на открывшейся её глазам плеши на затылке обер-лейтенанта, не тот характер был у неё, однако сей немецкий угодник, оказался бы в мысленном чёрном списке русской женщины с черногорской кровью. А этот список был роковым. Офицер унёс все её деньги, бросив на пол несколько мелких бумажек на общую сумму около пятидесяти крон. Остальные, считалось, будут положены на депозитив. Впоследствии Скорых представилась возможность проверить свой счёт: тысяча крон (она помнила, одной ассигнацией) исчезли.
**
Следующий раз она оказалась лицом к лицу с главным, по общему мнению интернированных, мучителем Талергофа на утреннем осмотре. Пан Володымэр Чировский появлялся в бараках ни свет, ни заря, с бранью срывал одеяла со спящих, стаскивал их с нар, не обращая внимания на мольбу женщин, которым маленькие дети долго не давали заснуть с вечера. День нередко начинался самочинными ревизиями личных вещей узников; перетряхивалась солома в тюфяках, руки ищущих долго, со скабрезными шуточками шарили под ночными рубашками женщин, щупали в бюстгалтерах. В других бараках мужчин при всех заставляли раздеваться донага и показывать потайные места. Лагерное начальство одобрило затеянные Чировским постоянные переводы людей из барака в барак, якобы предотвращающие сплочение отдельных заговорщиков в группы, а заходить не в своё жильё узникам строго запрещалось. Он выявлял врагов империи с завидным для его коллег по зиммеркомендатуре успехом, писал в высокие инстанции разоблачительные и победные рапорты, добивался для неисправимых врагов родины строгих наказаний и шумно радовался, присутствуя при экзекуциях.
***
В то утро Феодора проснулась до побудки и, умытая и одетая, стояла между нарами, расчёсывая свои роскошные волосы. Хлопнула входная дверь. В облаке холодного тумана вошла шумная группа надзирателей. Впереди, поблёскивая стёклами пенсне, катился пан Володымэр с обнажённой саблей в левой руке, с тростью в правой, раздавая удары направо и налево, выкрикивая ругательства. Его свита рассеялась по проходам, повторяя действие командира. Барак отозвался недовольным гулом, стоном, плачем. Чировский остановился возле Феодоры, успевшей надеть пальто и шляпку, ткнул ей в грудь тростью, словно учитель указкой на предмет изучения: «Берите пример, шановна криминальна громада! Ось как треба встречать начальство, - освободив правую руку от трости, вынул из бокового кармана шинели список заключённых. – Та-ак, где тут у нас? Надо отметить, поощрить, чтоб другим завидно было… Ну-ка, напомните». – «Скорых, Феодора». –«Скорых. Есть такая. Хм, русская. Природная москалька чи зрадница? Как эти», - показал Чировский списком на Котровичей. – «Прошу пана, мы не зрадники, - запротестовал старый библиофил, внимательно следящий за разговором из глубины нижних нар. – У меня в докторском дипломе вписано «Nationalitat: Russiche».
«Я дочь русского офицера, георгиевского кавалера», - поторопилась по-немецки ответить Феодора. – «О, да вы нашим языком владеете! – удивился австроукраинец, изобразив на лице ехидную приятность. – Нам как раз на эту неделю нужны высокообразованные, интеллигентные дамы, знающие языки и тонкое обхождение». Услышав эти слова, уже готовая к выходу из барака Марта, помогавшая одеваться деду, воскликнула с надеждой: «Милый офицер, возьмите и меня! Я говорю по-французски и по-английски». Все дни до этого, в мороз, не редкий для предгорий Альп, слабую женщину использовали в людской упряжке по перевозу мусора и снега возами. Она бы давно пала где-нибудь в канаве у дороги, словно изнурённая, больная лошадь, да мысль, что дед и дня без неё не выдержит, скончается даже не на чужих руках, а за равнодушными спинами углублённых в свои беды земляков, заставляло её жить. Феодора же на второе утро подала рапорт о зачислении её медицинской сестрой в больницу. Чировский начертал резолюцию языком Шиллера и Гёте: «Использовать в морге на предмет оказания первой помощи, если кто из покойников очнётся». Работы было много, утомляло однообразие: обмыть тело из ведра, уложить при помощи работника скорбного дома в гроб, посыпать нафталином, доставить к униатской церквушки или православной часовне, если будет на то чья-нибудь просьба, затем отвезти под сосны, впрягшись с тем же работником в тележку. Все трупы были лёгкими, а гробы, за редким исключением, сделаны из фанерок или картона; бывало, счастливчиков, расстающихся с Талергофом навсегда, зашивали в саван из пёстрой ветоши.
****
Чировский, не выпуская из рук бумаги и символов власти, затоптался, озираясь: «Прекрасно! Кто ещё из высокородных дам хочет присоединиться к нашим полиглоткам?». Нашлось ещё двое, и обер-лейтенант, вприпрыжку, сопровождаемый солдатом с гвером, повёл четвёрку избранниц не к воротам, а в сторону бани. За ней находились пустовавшие помещения. Возле котельни указал женщинам на дверь прачечной: «Чекайте здесь». Дамы охотно зашли в теплое помещение. От тазов с горячей водой поднимался к потолку пар. Пахло дешёвым мылом. Несколько узниц, с виду крестьянок, склонившись над жестяными тазами с установленными в них ребристыми досками, стирали бельё. Через некоторое время появился незнакомый распорядитель: «Чего расселись? А ну, живо за работу! Раздягайтесь!» - «Так мы ж, пане добродию, перекладачки з чужих мов. Герр офицер сказал нам…». - «Так перекладайте с тои купы на ту – через тазы з мыльною водою» - и, сквозь давивший его смех, повторил разговор на немецком языке солдатам, которые вслед за ним внесли в прачечную грязное бельё из казармы. Дикий хохот потряс помещение, смеялись даже постоянные прачки. Один из немцев ткнул Марте под нос вонючие, жёлтые в мотне подштанники: «Гнэдиге Фрау, это мои кальсоны, постарайтесь выстирать по-русски». - Шутка показалась солдатам удачной, каждый из них старался перещеголять другого, женщины вмиг оказались обвешенными с головы до ног грязным бельём: «Мадам, мои обоссанные подштаники вы должны выстирать по-французски». - «Обратите внимание, сеньора, на этот кусочек говна. Прошу отколупать его ноготками ваших изящных пальчиков, по итальянски». – «А я требую самой интеллигентской стирки, бай инглиш!».
«Лучше бы мне мусор возить», - задыхаясь от слёз, вымолвила Марта, когда солдаты вывалились, наконец, за двери, оглашая лагерь взрывами хохота.
*****
Темень зимнего вечера, насыщенного сырым холодом, местами разрывали керосиновые фонари у входов в казённые помещения. Четвёрка изнурённых непривычной работой женщин, владевших иностранными языками, волоча ноги по рыхлому снегу, подсыпаемому низким небом, возвращалась в барак. Навстречу им из-за угла выкатил тачку галицкий еврей, раввин, интернированный по подозрению в шпионаже (его взяли на пороге синагоги, глазеющим на отступление через местечко мадьярской части). В тачке, поверх горы мусора, сидел в рясе, в накинутом на плечи кожухе грузный священник с большим восьмиконечным крестом под бородой. Сзади нарочито торжественным шагом двигался караул с ружьями на плечах, с примкнутыми штыками. Солдаты, кто во что горазд, пели псалмы, содержания отнюдь не религиозного, не на дамский слух в хорошем обществе, а впереди дробно вышагивал неутомимый Чировский с обнажённой саблей, дирижируя тростью, выкрикивая: «Псалом Давида, четыре, пять!» - И караул ревел: «Не гневаясь-яс-ясь, согрешайте на ложах ваших, на ложах ваших утешайтесь!». На новообращённых прачек он не обратил внимания. Одна из них, откликавшаяся на обращение «пани арфистка», проводила ненавистным взглядом жирную спину обер-лейтенанта: «Пся крэв! Какой он паныч! Его дзяд паном гувняжем был, а ойтец – каминяжем». Спустя малое время солдаты «потешного эскорта», уже без обер-лейтенанта, обогнали прижавшихся к бетонной стене отхожего места женщин. Из весёлого разговора можно было понять, что равнин вывалил попа-схизматика вместе с мусором в яму для отбросов, а назавтра обоим «еретикам» предстоит проделать тот же путь, только в качестве пассажира будет иудей. «И-и-га-га-га! О-о-го-го-го!»
Продолжив путь в барак, трое из невольные прачек с возмущением обсуждали услышанное. Православные и многие униаты осуждали подобные выходки зиммеркоменданта. Рискуя быть заключёнными в одиночные камеры, подвешенными на столбах, лагерные пассионарии послали как-то коллективную жалобу в Грац и Вену – папскому нунцию и цесарю. Описали издевательства Чировского и его подельников над пожилыми бородатыми священниками, которых запрягали в телегу с огромной бочкой, полной воды, замену на кладбище православных крестов на «латинские». Из столицы ответа не дождались. Не помогли и украинские верховоды, обосновавшиеся под боком у Габсбургов. О ком просят их подопечные в Талергофе? О бородатых попах? Пусть лучше о себе думают!
Только Феодора не раскрывало рта. События этого дня стали для неё поворотными. Как уже не раз случалось в её жизни, она вдруг оказалась вне всего того, что происходит с ней, смотрит на участников какого-то нелепого действа и на саму себя словно со стороны, не переживая, не испытывая физической и душевной боли, не возмущаясь, ничего не чувствуя, кроме любопытства исследователя очередной человеческой затеи. Интересно, а что дальше?
Вынужденный эпилог к публикации
Общее описания лагерной жизни в Талергофе далее в источнике этой работы, отступает на второй план. Это уже только фон, на котором развиваются отношения двух действующий лиц лагеря, невольницы и вольнонаёмного. Благодаря австрийцу русской черногорки удаётся побег. В конце-концов, она оказывается на родине отца, за Уралом. И там, до трагического конца, продолжается жизнь Феодоры. Любопытствующие могут заглянуть в «Сказания древа КОРЪ» (ЛитРес). А здесь я предлагаю вниманию читателей, несколько фрагментов из большого произведения, где Талергоф определяет поступки двух его обитателей.
*
Вольнонаёмный работник лагерной покойницкой Генрих Краус, возможно, так никогда и не привык бы к ежедневному общению с трупами, да воспитание набожной матери, самосознание твёрдого партийца, привыкшего к дисциплине, помогли ему одолеть психологическое препятствие. Он понудил себя смотреть на мёртвое человеческое тело как на своеобразную вещь, ничем человеческим не наделённую, хотя и требующую известную осторожность при обращении с ней: не прикасаться к трупу обнажённой рукой, не жалеть на него нафталина или хлорки. После года службы мёртвым ни капли сострадания к ним, как к вчерашним чувствующим, думающим живым, у Крауса уже не осталось.
Австрийцу выделили каморку в помещении для врачей из числа заключённых. Это была лагерная «элита». По утрам, позавтракав белой булкой и настоящим кофе в общей комнате, он направлялся в покойницкую на территории лагеря, возле униатского храма (православных отпевал батюшка при часовне). За северным рядом «колючки», напротив некрополя, находилась ещё одна трупарня, большая по размерам. В неё сносили мёртвые тела, когда первая забивалась до отказа или вспышка какого-нибудь мора отправляла заключённых массово на тот свет. Оттуда «до цэрквы» или к часовне преставившихся не носили. Их сразу отправляли через лётное поле на погост угрюмые служители Тартар под «псалмы» ревущих летательных аппаратов. Священник лишь обходил торопливо ряды разверстых ям, утешая бывшую паству вечным покоем.
**
Феодора заметила Крауса в один из первых для неё лагерных дней. «Живые мощи» в навешенной на плечевые кости солдатской шинели и форменной фуражке с острым верхом над козырьком. Краус обратил внимание на рослую молодую женщину, когда она вошла в морг, куда её определил пан Чировский.
Генрих аппетитно закусывал варёной курицей возле открытого гроба с покойником, разинувшим чёрный беззубый рот будто в ожидании подачки. У этого австрийца не было чувства превосходства над заключёнными. Он осознавал себя принадлежащим к высшей, немецкой расе в потаённой глубине сознания, внешне ничем не обнаруживая расовую мерку, прикладываемую к каждому новому человеку. Славяне, разумеется, согласно ей, занимали более высокую качественную ступеньку, чем негры или китайцы, наука относила их к ариям. Да, арии, но ближе к краю этого ряда, за ними только всякие там индусы да персы. Они почти европейцы, во всяком случае, даже некоторые из русских, интеллигенты, вполне цивилизованы, отмечены европейской печатью. Похоже, фрау Скорих… Фу, ты! Скор’ых… из таковых. В её пользу говорит даже то, что она, в отличие от большинства русских женщин, совсем не смазлива. Грубость черт её лица, угловатость фигуры скорее свойственна немкам. Холостяк Краус предпочитал некрасивых в редкие периоды влечения к женщинам. Они казались ему более доступными, на них можно было меньше тратиться, что для истинного немца имеет немаловажное значение. И вообще, главное – душа, интеллект. Даже в постели.
Вводя новенькую в курс работы, Генрих предупредительно спросил, имела ли она раньше дело с трупами. Узнав, что назначенная ему напарница, из лагерных невольниц, служила сестрой милосердия в действующей армии, мысленно потёр руки: он избавлен от возни с дамочкой, которую может стошнить, которая в самый неподходящий момент грохнется в обморок. Вообще, знал он уже по собственному опыту, медицинские сёстры – самые выносливые существа среди людей. Никакой мужик-грузчик не сравниться выносливостью с хрупкой девицей, перетаскавшей с поля боя десятки, сотни раненых. От запаха дымящейся крови, от вида кусков человеческого парного мяса, от расползающегося под руками смердящего, зелёного трупа этим нежным с виду созданиям дурно не становится. Они умеют держать себя в руках и дело свою знают без подсказок.
Кроме медицинской сестры и бывшего работника «Рабочей газеты», попавшего в немилость властей в начале войны, внутреннюю покойницкую обслуживали ещё несколько заключённых мужчин среднего возраста. Все они были крестьянами из глухих горных сёл, осуждённых за то, что вернулись со своим священником в православие, когда в Бескиды (карпатское низкогорье) пришли русские. Они были крайне угнетены своей судьбой, винили во всём своего батюшку, недавно отнесённого на «цвынтар», держались вместе и особняком от инородцев. Естественно, что в этом скорбном доме Феодора и Краус образовали отдельную пару, чему способствовал их примерно одинаковый образовательный уровень и принадлежность к одному сословию по рождению. Общались они на немецком, жителям Бескид непонятным, что ещё больше отделило их от «пана нимця и пани нимкэни».
***
Очень скоро тот и другая поняли, что связывает их ещё и идеология. Рыбак рыбака видит издалека. Хотя русская социал-демократия большевистского толка, к коей принадлежала Скорых, многим отличалась от австрийской, русская большевичка и Краус были преданными марксистами. Это их сблизило до того последнего шага, на который, при «безрыбье» обречены молодые тела. Полюбила ли Феодора Генриха? Она вообще не знала, что это такое.
Генрих появился в её жизни как раз в то время, когда её телу понадобился мужчина. Она его осмотрела со всех сторон, будто умная машина, заглянула вовнутрь. Он показался ей более подходящим, чем другие из лагерных существ мужского пола… Генрих же нашёл в Феодоре именно ту женщину, какую подсознательно искал, не находил и поэтому стал к тридцати годам считать себя убеждённым холостяком.
Неуверенные в себе мужчины, мечтая о спутнице жизни или выбирая её из тех, что под рукой, подсознательно представляют её в виде живой опоры, своеобразной стенки, к которой можно прислониться, зажурив глаза перед надвигающейся угрозой, в расчёте по меньшей мере на прикрытие. Именно такой представилась ему Феодора сначала по внешним признакам: высокий рост, широкие плечи, крупные кисти рук физически крепкого мужчины, размашистый шаг солдата, низкий голос. Затем в голосе её открылся металл, не просто звуковой, а ломающий сопротивление её словесных противников. Далее, она оказалась храброй, но не безумно, а умно, находчивой, способной быстро принимать решения и достигать цели кратчайшим путём. В случае опасности и поражения, не бежать, но без паники, сохраняя холодность ума, отходить на наиболее выгодную позицию. Вообще, Краус мог желаемое выдавать за действительное. Такой он сотрудницу свою увидел, увиденному поверил. В глубине своего «Я» и он имел некий стержень, позволяющий ему «не распускать слюни влюблённости». К тому же, уверил себя Краус, он помогает некрасивой перестарке найти себе пару. Уверенность позволила ему сделать напарнице предложение по всей форме, не сомневаясь в положительном для себя ответе. И не ошибся.
Но в условиях лагеря брак между вольнонаёмным и заключённой был не реален. Неизвестно, как отнесётся к их затее талергофское начальство. Может подняться шум, вызвать насильственную разлуку нарушителей лагерного уложения. При этом Краусу грозит потеря работы, отправка на фронт. А Феодору скорее всего переведут в лагерь для русских военнопленных, вспомнив при разборе скандала, кто она и как появилась в Талергофе, или обрекут на худшие условия существования, чем сейчас. Остановились на сожительстве.
На ночь ваха разводила и отправляла своим ходом всех работающих на том или ином объекте лагеря по баракам на перекличку перед сном. Феодора подчинялась общему распорядку, установленному для интернированных. Расставаясь с физически близким ей человеком, едва он оставался за её спиной, она сразу забывала о нём. Чего помнить, представлять? Завтра увидятся. Генрих разочарованно брёл в своё вольное лежбище.
Тайный медовый месяц «молодые» провели на складе гробов, пристроенном к покойницкой, пользуясь минутами, когда остальные работники провожали умерших на кладбище. Австриец имел право не присоединятся к процессии, русская покупала его у товарищей по заключению, ссылаясь на недомогания и на другие выдумываемые причины. В отделении по обработке трупов было теплее, благодаря дыханию живых, чем на промёрзшем за необычно холодную зиму складе, но Феодора не была лишена женской стыдливости, а некоторые мертвецы лежали с открытыми глазами и, казалось, следили завистливыми взглядами за теми, кто мог двигаться и чувствовать.
Окончание. Начало см. разделы 1. 2, 3.