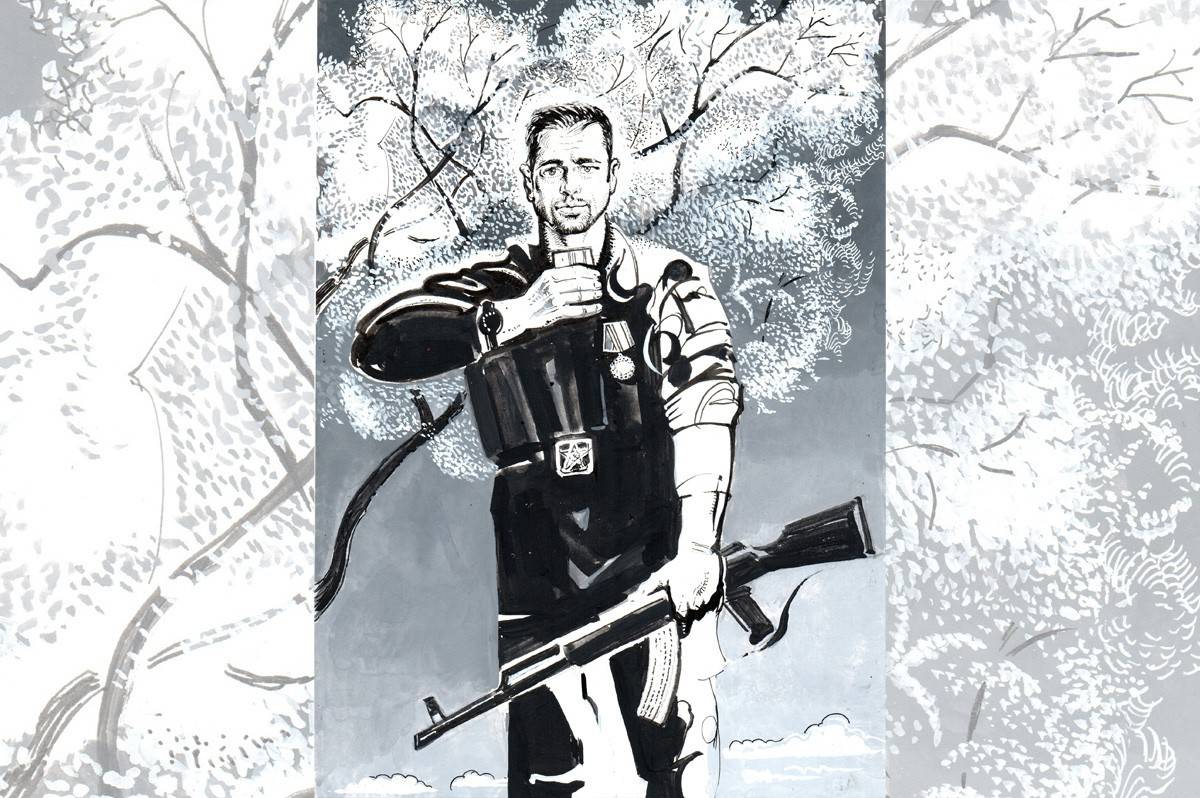В декабре этого года исполнилось 115 лет со дня рождения Александра Введенского и 30 лет со дня смерти Самюэла Беккета.
Введенский и Беккет – почти ровесники (второй моложе первого всего лишь на два года). При жизни они не знали друг друга, их пути при жизни никогда не пересекались, да и не могли пересечься. Тем более, что никому не известный Введенский умер в достаточно раннем тридцатисемилетнем возрасте. Беккет пережил его почти на пятьдесят лет, познал славу, успел получить Нобелевку, тут же розданную нуждающимся и кончил жизнь в приюте, куда он ушел по доброй воле, чтобы последние годы провести на койке в полном молчании – лицом к стене и спиной к внешнему миру, к которому он всю жизнь был равнодушен, предпочитая ему мир внутренний.
Только в 1991 г., когда в Полном собрании Сочинений Александра Введенского спустя ровно пятьдесят лет после его смерти были напечатаны тексты Серой тетради, начатой и ведомой им в тюрьме, стало понятно, насколько он близок к Беккету. Вернее – Беккет к нему.
С Серой тетради и начнем. Точнее - с одного из фрагментов, где невозможность постижения реальности в рамках привычных понятий сведена к полному словесному абсурда, очень убедительно, впрочем, обоснованному Введенским.
«Перед каждым словом я ставлю вопрос: что оно значит, и над каждым словом я ставлю показатель его времени. Где дорогая душечка Маша и где ее убогие руки, глаза и прочие части? Где она ходит убитая или живая? Мне невмоготу. Кому? Мне. Что? Невмоготу. Я один как свеча. Я семь минут пятого один 8 минут пятого, как девять минут пятого свеча 10 минут пятого. Мгновенья как не бывало. Четырех часов тоже. Окна тоже. Но все то же самое».
Еще один фрагмент:
«Теперь возьмем минуту назад, или примеряем минуту вперед, тут вертись или оглядывайся, нам не видно этих минут, одну из них прошедшую мы вспоминаем, другую будущую воображаем. Дерево лежит, дерево висит, дерево летает. Я не могу установить этого. Мы не можем ни зачеркнуть, ни ощупать этого. Я не доверяю памяти, не верю воображению. Время единственное, что вне нас не существует. Оно поглощает все существующее вне нас. Тут наступает ночь ума. Время всходит над нами как звезда. Закинем свои мысленные головы, то есть умы. Глядите, оно стало видимым. Оно восходит над нами как ноль. Оно все превращает в ноль. (Последняя надежда – Христос Воскрес).
Христос Воскрес – последняя надежда».
Далее следует еще один довольно большой кусок, возможно, продолжающий предыдущий, и служащий своеобразным переходом от незаконченной стихотворной пьесы к началу прозаического философского трактата, отрицающего все предыдущее. Вернее, к первой главе его, носящей название «Время и Смерть».
Прочтем и его:
«Все, что я здесь пытаюсь написать о времени, является, строго говоря, неверным. Причин этому две. 1) всякий человек, который хоть сколько-нибудь не понял время, а только не понявший хотя бы немного понял его, должен перестать понимать и все существующее. 2) Наша логика и наш язык не соответствуют времени ни в каком, ни в элементарном, ни в сложном его понимании. Наша логика и наш язык скользят по поверхности времени.
Тем не менее, может что-нибудь можно попробовать и написать если не о времени, не по поводу непонимания времени, то хотя бы попробовать установить те некоторые положения нашего поверхностного ощущения времени, и на основании их нам может стать ясным путь в смерть и в широкое непонимание.
Если мы почувствуем дикое непонимание, то мы будем знать, что этому непониманию никто не сможет противопоставить ничего ясного. Горе нам, задумавшимся о времени. Но потом при разрастании этого непонимания тебе и мне станет ясно, что нету ни горя, ни нам, ни задумавшимся, ни времени».
Прежде, чем пойти дальше, я хотел бы отметить некоторую двусмысленность изложенных в этом фрагменте положений; ибо, хотя в нем Введенские косвенно и дает некоторые основание для интуитивного постижения того, что лежит за пределами человеческой логики, в том числе и постижение свойств Вечности и даже присутствующего в ней Бога, но вместе с тем явно играет с неким душевредного свойства огнем. С каким именно – об этом я скажу далее, а пока хотел бы обозначить контекст, в рамках которого будут развиваться последующие мои рассуждения.
Дело в том, что и в этих философских главках наблюдаются некоторые мотивы, которые позволяют проецировать их как раз в сторону двадцатью годами позже написанной пьесы Беккета, прославившей его на весь мир. Да и в других беккетовских произведений можно найти нечто общее с Введенским не только в сюжете, но и в их философских предпосылках.
Как известно, сюжет пьесы Беккета построен на ожидании некоего Годо, имя которого в русском переводе вполне, и даже на правах главенствующей версии, может быть прочитано как Бог, и которого на протяжении двух топчущихся на месте актов жаждут увидеть ее персонажи. Такое же затяжное стремление разглядеть Бога сквозь обыденные, повседневные дела и заботы, в глубине повседневных же явлений и даже окружающих предметов, существующих на фоне изменяемого и одновременно топчущегося на месте времени, есть конечная цель и Введенского в Серой тетради. В особенности важно отметить, какую большую роль и в том, и в другом произведениях играет мотив остановившегося и непостижимого времени для тоже замерших на его фоне персонажей, а также мотив бесконечной дороги, по которой они идут или стоят на ее обочине.
«Перед тобой стоит дорога, и позади тебя лежит тот же путь», - так прямо и говорит один из персонажей Введенского, намечающий тем самым в конце оборванного на полуслове фрагмента неоконченной пьесы выход в продолжающий ее далее или же служащий к ней комментарием философский трактат, причем в отличие от несколько расплывчатых философских координат пьесы Беккета, Введенский очень точно расставляет вехи, отмечающие продвижение сюжета вглубь. В особенности и в первую очередь это касается именно ключевого образа, весьма недвузначно соотнесенного с категорией нелинейного времени.
Я уж не говорю о финальном монологе одного из героев, который вполне может быть воспринят как краткий конспект пьесы Беккета, в особенности в контексте ожидания, которому предаются персонажи последнего. Но у Введенского же имеется и описание внутреннего подспудного действия беккетовской пьесы, которое почти идентично внешнему своему выражению – в словах, утративших, утрачивающих или почти утративших свое значения и даже обрастающих порою прямо противоположными значениями (умолчим покамест о словесном выражении действий и противоречия их с реальными).
Цитирую главу вторую трактата Введенского – «Простые вещи»:
«Будем говорить о простых вещах. Человек говорит: завтра, сегодня, вечер, четверг, месяц, год, в течение недели. Мы считаем часы в дне. Мы указываем их прибавление. Раньше мы видели только половину суток, теперь заметили движение внутри целых суток. Но когда наступают следующие, то счет часов мы начинаем сначала. Правда, зато к числу суток прибавляем единицу. Но проходит 30 или 31 суток. И количество переходит в качество, оно начинает расти. Меняется название месяца. Правда, с годами мы поступаем как бы честно. Но сложение времени отличается от всякого другого сложения. Нельзя сравнить три прожитых месяца с тремя вновь выросшими деревьями. Деревья присутствуют и тускло сверкают листьями. О месяцах мы с уверенностью сказать того же не можем. Названия минут, секунд, часов, недель и месяцев отвлекают нас даже от нашего поверхностного понимания времени. Все эти названия аналогичны либо предметам, либо понятиям и исчислениям пространства. Поэтому прожитая неделя лежит перед нами как убитый олень. Это было бы так, если бы время помогало счету пространства, если бы это была двойная бухгалтерия. Если бы время было зеркальным отображением предметов. На самом деле предметы это слабое зеркальное отображение времени. Предметов нет. На, поди их возьми. Если с часов стереть цифры или забыть ложные названия, то уже может быть время захочет показать нам свое тихое туловище, себя во весь рост. Пускай бегает мышь по камню. Считай только каждый ее шаг. Забудь только слово каждый, забудь только слово шаг. Тогда каждый ее шаг покажется тебе новым движением. Потом, так как у тебя справедливо исчезло восприятие ряда движений как чего-то целого, что ты назвал ошибочно шагом (ты путал движение и время с пространством, ты неверно накладывал их друг на друга)., то движение у тебя начнет дробиться, оно придет почти к нулю (т.е. – наступит вечность). Начнется мерцание. Мышь начнет мерцать. Оглянись: мир мерцает, как мышь».
Данный фрагмент может в какой-то мере послужить объяснением тому, почему, в частности, так и не могут дождаться появления Бога персонажи Беккета. Не знаю, надо ли здесь говорить о сомнительности, вернее – о возможной сомнительности такого мерцания, ведь оно следует уже из не совсем верного (и противоречивого) построения Введенского: в наступившем мерцании вечности можно прозреть существование Бога, что Введенский очевидно подразумевает, как мы убедимся далее. Но ведь можно и не Бога, а нечто совсем ему противоположное; а можно вообще ничего не увидеть, как то и происходит с персонажами Беккета.
Сравним теперь процитированную главу с несколькими фрагментами «В ожидании Годо», где перечисленные Введенским медитации воплощаются в языковых и физических действиях.
Эстрагон (далее – Э.) Пойдём.
Владимир (далее – В.) – Мы не можем.
Э. – Почему?
В. – Мы ждём Годо.
Э. – Ах да. (Пауза.) Ты уверен, что это здесь?
В. – Что?
Э. – Нужно ждать.
В. – Он сказал, около дерева.
(Они смотрят на дерево.)
Ты видишь другие деревья?
Э. – Что это?
В. – Похоже на иву.
Э. – А где листья?
В. – Оно, наверное, засохло.
Э. – Не плачет больше.
В. – Возможно, не сезон.
Э. – Это скорее куст.
В. – Деревце.
Э. – Куст.
В. – Де... (Меняется. Что ты хочешь этим сказать? Что мы ошиблись местом?
Э. – Он должен уже быть здесь.
В. – Он не сказал, что обязательно придет.
Э. – А если он не придет?
В. – Мы вернемся сюда завтра.
Э. – И послезавтра.
В. – Возможно.
Э. – И так далее.
В. – То есть...
Э. – Пока он не придет.
В. – Ты безжалостен.
Э. – Мы уже были здесь вчера.
В. – Нет уж, тут ты ошибаешься.
Э. – Тогда что мы делали вчера?
В. – Что мы вчера делали?
Э. – Да.
В. – Честное слово... (Разозлясь.) Ты все всегда ставишь под сомнение.
Э. – Мне кажется, что мы были здесь.
В. – (Оглядываясь вокруг себя.) Тебе знакомо это место?
Э. – Я этого не говорил.
………………………………………………………………………………………В. – Но ты говоришь, что мы вчера здесь были.
Э. – Может, я ошибаюсь. (Пауза.)
Интересно, что в этом отрывке фигурируют привычные для поэтики Введенского иероглифы: дерево, куст, четверг и т.п. Нетрудно заметить также сходство приведенных диалогов с Десятым разговором из предпоследнего произведения Введенского.
Как и у героев Введенского, намерения у героев Беккета противоречат высказываниям, высказывания - дальнейшим действиям, те, в свою очередь, намерениям, и т.д. – по замкнутому кругу.
Сходной проблематикой отмечен трактат Введенского – в частности, глава третья под названием «Глаголы», а также - уже цитированный нами последний абзац главы четвертой – «Предметы». Приведем, с небольшими купюрами, третью главу.
«Глаголы в нашем понимании существуют как бы сами по себе. Когда мы идем куда-нибудь, мы берем в руки глагол идти. Глаголы у нас тройственны. Они имеют время. Они имеют прошедшее, настоящее и будущее. Они подвижны. Они текучи, они похожи на что-то подлинно существующее. Между тем нет ни одного действия, которое бы имело вес… Глаголы на наших глазах доживают свой век. В искусстве сюжет и действие исчезают. Те действия, которые есть в моих стихах, нелогичны и бесполезны, их нельзя уже назвать действиями (то же самое можно сказать и о произведениях Беккета). Слово вышел непонятное слово. События не совпадают со временем. Время съело события. От них не осталось косточек».
По ходу чтения этого фрагмента я захотел убедиться, насколько большой вес имеют глаголы и от них производные в тексте Беккета и перечитал его пьесу еще раз; глагольных форм в «Годо» действительно чрезвычайно много.
Теперь мы обратимся к мысли Введенского относительно того, что только последние час или два перед смертью действительно могут быть названы часом; мне даже кажется, что под часом Введенский здесь подразумевает единственно значимый в жизни человека точно определенный и могущий казаться бесконечно растяжимый период времени, на который он намекает в произведении «Сутки», и что находит прямое подтверждении в следующих далее словах главы «Глаголы»: «это есть что-то целое, что-то остановившееся, это как бы пространство, мир, комната или сад, освободившееся от времени. Их можно пощупать».
Скажу больше: не только трактат Введенского, но и все то, чем отмечена протяженность обоих актов «В ожидании Годо» может быть смело воспринято своеобразным аналогом Немой сцены, заключающей «Ревизор» Гоголя; здесь, как и там – как будто замершие на некой границе и вглядывающиеся в себя, вернее – в свои в один момент представшие перед их глазами собственные существовательные модели, как бы попавшие внезапно перед гигантскую лупу или микроскоп, или увеличивающее зеркало (вспомним также гоголевский эпиграф: «на зеркало неча пенять, коли рожа крива»); правда, к чести беккетовских персонажей, они на него и не кивают, высказывая тем самым перед его лицом своеобразное смирение, в чем, конечно же, можно увидеть рецидивы христианства (стоит также обратить внимание на неоднократные упоминания ими Христа Спасителя, от Которого так настойчиво и сердито на протяжении всей жизни отрекался Беккет). При желании можно увидеть и отдаленную реминисценцию (прошу прощения, если кого покоробит такая довольно несуразная мысль) одной из глав Апокалипсиса – с тем местом, где в мире наступает как бы странная тишина, о значении которой сознательно умалчивает повествователь.
Что же касается собственно течения времени, то в «Годо» оно соотносится с действием приблизительно так же, как описывает его Введенский в главе шестой – «Точки и седьмой час»:
«Когда мы ложимся спать, мы думаем, мы говорим, мы пишем: день прошел. И назавтра мы не ищем прошедшего дня. Но пока мы не легли, мы относимся к дню так, как будто бы он еще не прошел, как будто бы он еще существует, как будто день это дорога, по которой мы шли, дошли до конца и устали. Но при желании могли бы пойти обратно. Все наше деление времени, все наше искусство относится к времени так, как будто бы безразлично, когда это происходило, происходит или будет происходить. Я почувствовал и впервые не понял время в тюрьме».
И действительно: внимательно читая Введенского можно заметить, что, начиная приблизительно с начала тридцатых годов, в его произведениях тема времени занимает все большее и большее место, тогда как до этого внимание было больше направлено на постижение Бога и смерти.
Отметим попутно заодно и очень важный, хотя и не отмеченный Введенским аспект, касающийся понятий свободы и несвободы, разворачиваемый в этой главе вполне в понятиях христианского ее понимания. И учтем, что многие постижения Введенского, в том числе и Бога, происходят не столько в плане философском, и зачастую даже, пожалуй, не религиозном, но интуитивно-поэтическом. Впрочем, эти соображения уводят нас в сторону от намеченной было темы, а именно того, насколько точно развивает их на уровне драматургического сюжета Введенский, в особенности в тех эпизодах, где мы находим упоминание и об отсутствии событий, и попытки точно повторить следующий день. В общем, всего того, чем отмечены драматургические приемы Беккета:
В. – Мой друг ушиб ногу.
Поццо. – А Лакки?
В. – Значит, это действительно он?
Поццо. – Как так?
В. – Это действительно Лакки?
Поццо. – Я не понимаю.
В. – А вы Поццо?
Поццо. – Конечно, я Поццо.
В. – Те же, что и вчера?
Поццо. – Что и вчера?
В. – Мы виделись вчера. (Молчание.) Вы не помните?
Поццо. – Я не помню, что кого-то встречал вчера. Но завтра я не вспомню, что кого-то встречал сегодня. Не рассчитывайте на меня, если хотите узнать.
Как при чтении этого фрагмента не вспомнить философему Введенского: «Воспоминания вещь ненадежная».
Продолжаю прерванную цитату из четвертой главы трактата Введенского, носящую название «Точки и седьмой час»:
«Я всегда считал, что по крайней мере дней пять вперед это то же, что пять дней назад, это как комната, в которой стоишь посредине, где собака смотрит тебе в окно. Ты захотел повернуться, и увидел дверь, а нет – увидел окно (напоминаю, что дверь или окно значат у Введенского выход в какие-то иные, помимо бытовых, измерения, в том числе из времени в вечность – В. Я.). Но если в комнате четыре гладких стены, то самое большее, что ты там увидишь, это смерть на одной из стен. Я думал в тюрьме испытывать время. Я хотел предложить, и даже предложил соседу по камере попробовать точно повторить предыдущий день, в тюрьме все способствовало этому, там не было событий. Но там было время. Наказание я получил тоже временем. В мире летают точки, это точки времени. Они садятся на листья, они опускаются на лбы, они радуют жуков».
Здесь я упускаю прямо не относящиеся к рассматриваемой теме и к тому же не раз цитированные мною раннее рассуждения Введенского о моменте смерти и прямо перехожу к затрагиваемой им далее проблеме непонимания жизни на почве непонимания течения времени - одной из основных, если не самой основной также и в пьесе Беккета.
«Наш календарь устроен так, что мы не ощущаем новизны каждой секунды, и в то же время ничтожность этой новизны, стала мне ясной. Я не могу понять сейчас, что если бы меня освободили двумя днями раньше или позже, была ли бы какая-нибудь разница. Становится непонятным, что раньше или позже, становится непонятным все».
Здесь намечены, как мне кажется, некоторые аналоги со словами апостола о неразумии плотского ума, о преимуществе духовного юродства над позитивистским житейским. Об этом же, привлекая к апостольскому высказыванию о безумном Божьем еще и кьеркегоровское понятие абсурда и парадокса, размышляет Яков Друскин в своих трудах, посвященных поэтике Введенского.
Приведу одну не совсем точную цитату: «Введенский говорил: время (и жизнь) иррациональны и непонятны. Поэтому понять время (и жизнь) это значит не понимать их. В этом смысл бессмыслицы. Это не скептицизм и не нигилизм, и не невесомое состояние (битничество), а скорее апофатическая теология (Дионисий Ареопагит) – богословие в отрицательных понятиях. Поэтому большинство произведений Введенского – эсхатологические, и почти в каждой - Бог. Это связано с ощущением непрочности своего положения и места в мире и природе. Эта непрочность не политическая или социальная, а онтологическая: на всеобщих развалах и обломках. Полная радикальная десубстанциализация мира возможна только для верующего. У неверующего остается еще последний идол, фетиш: я сам, мой ум. Отсюда понятны слова Введенского о том, что он провел критику разума, более радикальную, чем Кант.
Но подобное понимание и непонимание – практическое: ноуменальное понимание в логическом непонимании в философии практически требуют какого-то внутреннего переустройства от слушателя и читателя, также религиозного порядка.
Божественное безумие посрамило человеческую мудрость. Введенский десубстанцилизирует созданной человеческой мудростью гипостазированные условности, выдаваемые за экзистенциализм жизни».
Легко заметить, что почти все из того, что Друскин относит к фирменным, так сказать, знакам Введенского, далеко не чуждо и Беккету, несмотря на разность позиций и мировосприятия его и Введенского в богословском, условно говоря, плане. Более того – он его фиксирует в рамках своей несколько отличающейся, хотя и не слишком, от чинарей поэтики. Может быть поэтому дальнейшие рассуждения Введенского в Серой тетради для читавших «В ожидании Годо» воспринимаются как пересказ происходящего там – только в обратной, так сказать, временной перспективе – как будто не Беккет, вполне могший прочесть Серую тетрадь (чего он, естественно, не делал), кое-что позаимствовал из Введенского (чего он тоже не делал), но сам Введенский сделал конспект «Годо» в Серой тетради, к цитированию которой (все той же седьмой главы, неоднократно прерываемой моими комментариями) я опять прибегаю:
«А между тем петухи кричат каждую ночь. Но воспоминания вещь ненадежная (сравним с воспоминаниями персонажей, ждущих Годо в первом акте пьесы – В. Я.), свидетели путаются и ошибаются. В одну ночь не бывает два раза 3 часа, убитый лежащий сейчас – был ли он убит минуту тому назад и будет ли убит послезавтра. Воображение непрочно. Каждый час хотя бы, если не минута, должен получить свое число, и каждым следующим прибавляющееся или остающееся все тем же. Скажем, что у нас седьмой час и пусть он тянется. Надо для начала отменить хотя бы дни, недели и месяцы. Тогда петухи будут кричать в разное время, а равность промежутков не существует, потому что существующее не сравнишь с уже несуществующим. Почем мы знаем? Мы не видим точек времени, на все опускается седьмой час».
Все, о чем говорил здесь Введенский, и для него и для нас всех, разумеется, неосуществимо. Тщетность таких попыток в случае Введенского может быть объяснима, кажется, тем, что до поры до времени он пытался осуществить выход из времени посредством собственного ума, вне призывания Бога, без чего невозможно не только какое бы то ни было понимание, но даже, думается, непонимание, могущее в какой-то мере послужить толчком к осмыслению первого. Об этом – в коротком отрывке седьмой, заключительной главы: «все разлагается на последние смертные части. Время поедает мир. Я не по…»
Последнее предложение, прерванное на полуслове, Друскин реконструирует как: «Я не понимаю». А что касается фразы о времени, поедающей мир, то ее можно понять как сожаление о времени, отравленном грехом (собственно время, по мнению многих богословов, и возникло как следствие привнесенного человеком в вечность греха, почему она (вечность) и закончилась для человека). Но и возвращение человечества в вечность должно знаменоваться исчезновением времени; на это замкнутое цикличное и одновременно линейное движение и намекает, кажется, Введенский.
Но и Беккет - тоже. Цитирую «Годо»:
В. Что мы здесь делаем, вот о чем мы должны себя спросить. Нам повезло, что мы знаем. Да, во всем этом ужасном хаосе ясно одно: мы ждем, когда придет Годо.
Э. – Ах, да.
В. – Пусть настанет ночь. (Пауза.) У нас назначена встреча, этим все сказано. Мы не святые, но у нас назначена встреча. Сколько людей может вам ответить так же?
Э. – Тысячи.
В. – Ты так думаешь?
Э. – Не знаю.
В. – Возможно. Что совершенно точно, так это то, что в такой момент время течет медленно и заставляет нас разнообразить его поступками, которые, как бы это сказать, могут на первый взгляд показаться разумными, но к которым мы привыкли. Ты скажешь, что это чтобы не дать угаснуть нашему разуму. Это само собой разумеется. Но не блуждает ли он уже в вечной ночи подземелий, вот о чем я себя иногда спрашиваю. Ты следишь за моей мыслью?
Э. – Мы все рождаемся сумасшедшими. Кое-кто им остается.
В. – Я бы так далеко не зашел.
Э. – Ты считаешь, что этого достаточно?
В. – Нет, я хочу сказать, чтобы утверждать, что, когда я появился на свет, у меня было не все в порядке с головой. Но не в этом суть. Мы ждем. Мы скучаем. (Поднимает руку.) Нет, не возражай, мы не очень скучаем, это неоспоримо. Так вот. Вдруг представляется развлечение, и что мы делаем? Мы его упускаем. Через мгновение все рассеется, и мы снова останемся одни, наедине с одиночеством. (Уходит в себя.)
Подытоживая приведенную цитату, добавлю еще, что в Серой тетради у Введенского несколько раз появляется Бог, которого так долго и тщетно ждут герои Беккета, вернее, некая тень Его выглядывает, так сказать, из-за текста. Еще более примечательно, что повествователю Он показывается тоже после долгого и длительного и тоже не связанного с какими бы то ни было прилагаемыми усилиями ожиданием, скорее - даже вневременной медитации - после того, как он из нее выходит, заодно выйдя при этом за пределы собственной личности. Даже, собственно, из той части своего тела, на котором он долгое время был сосредоточен. В скобках замечу, что только после этого он может, по Введенскому, выйти и за пределы времени – причем как внешнего, так и внутреннего. И добавлю, что не только внутреннее и внешнее время для героя Введенского разграничено; как мы увидим далее, так же и разграничен внутренний и внешний человек, который, казалось бы, должен составлять единое существо. Но не составляет, хотя время должно было прекратить свое существование задолго до этого. Не исключено, впрочем, что противоречие сознательно игнорируется автором; и вот только тогда, по выражению повествователя, «в сосуде времени может показаться Бог».
Процитирую этот могущий показаться довольно эксцентричным для незнакомых с поэтикой Введенского, но зато очень показательный для сравнения с философией Беккета фрагмент:
«Когда один человек жил в своем собственном ногте, то он огорчался, плакал и стонал. Но как-то он заметил, что нет вчера, а есть только сегодня. И прожив сегодняшний день, он сказал: есть о чем говорить. Этого сегодняшнего дня нет у меня, нет и того, который живет в голове, который скачет как безумный, который ест и пьет, который плавает на ящике, и у того, который спит на могиле друга. У нас одинаковые дела. Нам есть о чем говорить.
И он стал обозревать мирные окрестности, и в стенах сосуда времени ему показался Бог».
Те, кто читал или видел на сцене постановку беккетовской пьесы, не могут не увидеть в этом фрагменте Введенского целый ряд обстоятельств, которые определяют и бесконечность ожидания ее героев, которые тоже замечают, и не однажды, что нет вчера, а есть только сегодня, что и сегодняшнего дня нет; а, прожив очередной день, они опять и опять делают попытки в словах выразить ту пустоту, которая переполняет их изнутри, но которая напирает на них и снаружи. А посему - «у них одинаковые дела». И по этой же причине им есть о чем говорить – при том, что говорить может и не надо было бы; лучше, может быть, было бы замолчать. И о том, и о другом не раз говорят персонажи, ждущие Годо, т.е. Бога. Но если даже Бог здесь не подразумевается, это мало меняет дело: ибо кого еще другого, кроме Него могут ждать люди, наглядно воплощающие крах не оправдавшего своего назначения гуманистического мировоззрения? Разве что смерти? – но и она своим приходом ознаменует одновременно также и встречу с Богом, вне зависимости от того, понимают они это или не понимают, и понимает ли это сам Беккет, не без ехидства за ними наблюдающий. Но ехидство это особого рода: оно очень точно определено в давней статье Александра Блока «Ирония». Думается, что под всем, о чем пишет там Блок, мог бы подписаться и Беккет, и его персонажи - потому что им, стоящим на краю описанной Блоком бездны, просто некуда деться от этого понимания, разве что прыгнуть в бездну, о чем, все-таки, нет ни в одном из произведений Беккета, однажды произнесшего примечательную фразу: «Я закончил, я продолжаю». Это же продолжение подразумевает и следующий диалог из его пьесы:
В. – Что вы делаете, когда вы падаете там, где неоткуда ждать помощи?
П. – Мы ждем, пока не сможем подняться. Потом снова идем.
И – немного погодя:
В. – Спал ли я, когда другие страдали. Сплю ли я сейчас? Завтра, когда мне покажется, что я проснулся, что скажу я про этот день? Что с моим другом Эстрагоном, на этом месте, до наступления ночи я ждал Годо? Что Поццо проходил здесь со своим носильщиком и что он с нами разговаривал? Без сомнения. Но что будет правдой во всем этом? …Он не будет ничего помнить. Он расскажет, что его побили и я дал ему морковку. (Пауза.) Верхом на могиле и сложные роды. Из ямы, мечтательно, могильщик протягивает щипцы. У нас есть время состариться. Воздух полон нашими криками. (Прислушивается.) Но привычка – вторая натура. (Смотрит на Эстрагона.) Кто-то другой смотрит на меня, говоря себе: "Он спит, он не знает, что он спит." (Пауза.) Я не могу так продолжать. (Пауза.) Что я сказал?
Он ходит нервно туда-сюда, останавливается, наконец, у левой кулисы, смотрит вдаль. Солнце садится, поднимается луна. Владимир стоит неподвижно.
В дополнение к сказанному приведу ключевые слова пьесы Беккета: «время кончилось»; «когда ждешь, ничего не происходит»; «ничего не происходит, никто не приходит, никто не уходит»; «что я могу сделать, чтобы время пошло для них быстрее»; а в качестве дополняющего уточнения можно привести еще и ключевую фразу из пьесы «Конец игры»: «время – ноль».
И напоследок вот еще о чем: размышления персонажей и Введенского, и Беккета о времени (скорее, даже о его неизбежном конце) и о Боге проистекают в неком застывшем и одновременно перемещающимся внутри себя самого пространстве, порожденном постоянно сменяющими друг друга сомнениями, выраженными репликами то отчаивающихся, то снова обретающими некую смутную надежду персонажами, причем сопровождающее все эти действия ожидание у Введенского носит скорее позитивный, чем негативный характер (у Беккета, кажется, наоборот), но, так сказать, безотносительно того или иного ожидающего, а скорее в некой категории всеобщности: для него важно не то, придет ли к его персонажам Бог или не придет, а, скорее, Его наличие или не наличие в жизни. И возможную встречу с Богом определяет не бесконечное, не имеющее ни начала, ни конца ожидание, как у Беккета, но пускай и не целенаправленный, но все таки путь в направлении к Нему.
Означенное направление можно определить, наверное, по наличию толчков, которые с целью направления читателя к Богу задает ему тот или иной автор. И тогда ощутивший эти толчки на уровне еще не понимания, но ощущения, читатель становится соучастником намекающего на нечто для него непонятное, в том числе - тоже до конца не понимающего то, о чем он говорит, автора. И Введенский, и Беккет, эти толчки, как мне кажется, дают; мне лично, во всяком случае, во время моего религиозного становления в юности, они их дали немало.