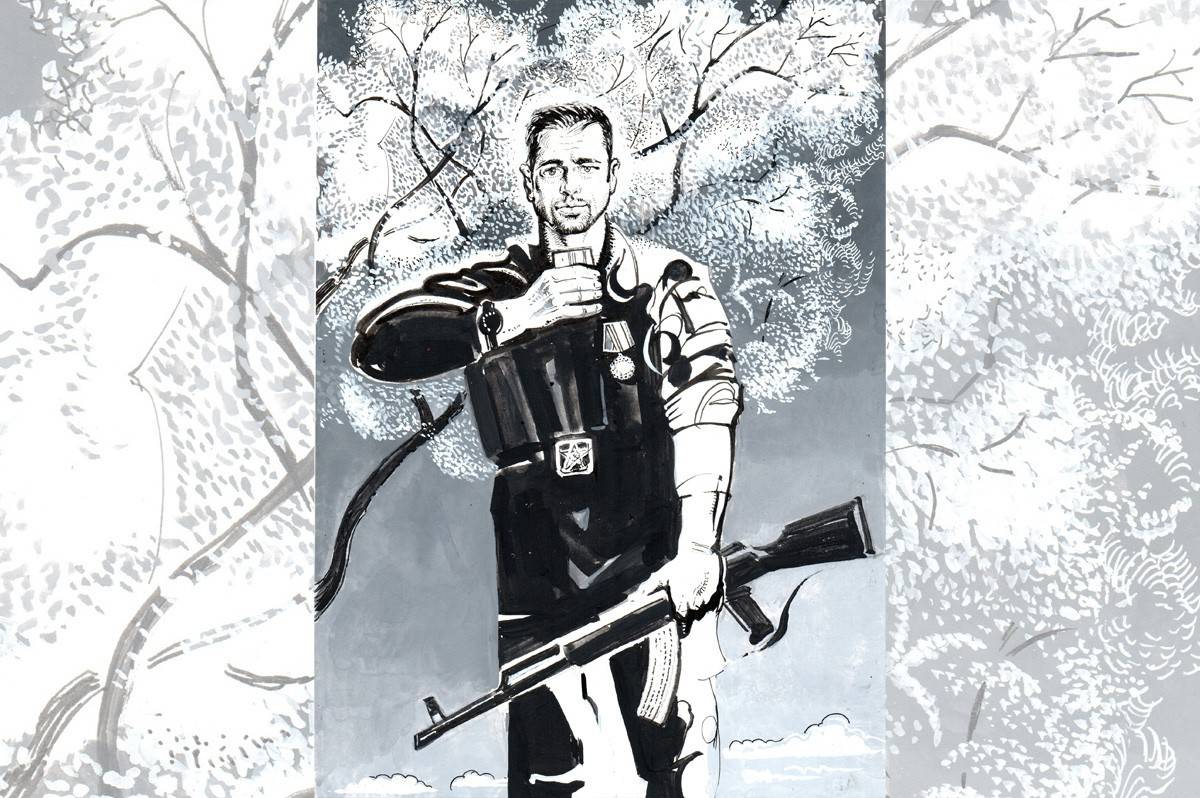Речь пойдет о времени, в котором жили и творили Введенский и Хармс. Но прежде, чем обсуждать заявленную тему, следовало бы, наверное, ввести особый термин: «чинарская реальность». Если говорить о бытовых ее слагаемых, то они больше определяются обстоятельствами жизни предреволюционной, чем послереволюционной. Но и та и другая предстают у членов чинарского сообщества под образовавшимися к зрелой поре творчества личными углами зрения. У Введенского – под знаком Бога и смерти (и, разумеется, исчезающего времени), у Хармса – под знаком всеобъемлющего насилия, причем приметы эпохи прошедшей часто переносятся в эпоху советскую.
Примеров таких перенесений и в произведениях Введенского предостаточно. Если оставить в стороне те из них, где действие проистекает явно на нейтральной, стерилизованной от внешних влияний территории, вне пространства и времени, то даже при прочтении «Потца» или «Некоторого количества разговоров», действие которых явно не имеет четких временных координат или примет, все-таки создается впечатление, что действие относится не к послереволюционной, а предреволюционной эпохе. А в большинстве произведений Хармса время действия и вовсе прямо отнесено к прошлому, мыслительными чертами которого он наделяет и персонажей.
Старуху из одноименной повести – в особенности. Она кажется одновременно осколком старого мира, своеобразным знаком очеловеченного прошлого и предшественницей бесконечного ряда вываливающихся старух из расчеловеченного нового бравого мира. Особо отметим: интеллигентных, преимущественно, старух.
Но и у Введенского относительно предреволюционной интеллигенции тоже нет никаких иллюзий. Интеллигенты у Введенского изрядно рутинны, примитивны, пошлы, все их мысли не выходят за рамки представлений, свойственных их эпохе – эпохи, что немаловажно, либеральной, зараженной самыми глупыми предрассудками, но при том считающей себя, что бывает в этой среде сплошь и рядом, не просто самой передовой и прогрессивной, но пупом вселенной на все времена. Самое же главное – лишенной какой бы то ни было религиозности. А ведь только по степени приближения к Богу или, даже – по желанию этого могущего никак не наступить приближению, измеряется степень просвещения человека, равно как и степень его личной человеческой свободы. Не будем уж говорить – ума, если, конечно, понимать ум не только как одно из духовных слагаемых, кои должен стяжать верующий человек на протяжении всей своей жизни ради конечного результата, но и как образ, опять-таки, бытового поведения. Первое, впрочем, доступно отнюдь не каждому – только избранным; а их, как известно, весьма мало на фоне многочисленных званных, к коим принадлежит большинство из нас, не желающих реализовывать себя в Боге в полноте; и даже - относительно малой доли призванных.
Обратим внимание на пересечения некоторых деталей «Старухи» и дилогии Введенского «Очевидец и крыса» и «Сцена на шестом этаже», лежащих, правда, несколько в стороне от нашей темы и больше касающихся области поэзии. Оправдать это отступление, правда, может то, что ведь и ее существование в одинаковой степени лежит и во времени, и в безвремении, которое смело можно назвать вечностью. Посыл – в строчке Введенского: «дверь в поэзию открыта», служащей истоком сразу нескольких мотивов «Старухи».
Как она согласуется с сюжетом повести Хармса? Не впрямую, конечно, но, тем не менее, довольно наглядно.
Привожу текст Введенского:
Маргарита Маргарита
дверь скорее отвори,
дверь в поэзию открыта,
ты о звуках говори.
..................................................
(Маргарита для науки
мы не верим, что мы спим.
мы не верим, что мы пишем,
мы не верим, что мы слышим,
мы не верим, что молчим.
Выделим из этого короткого фрагмента три мотива: мотив двери, мотив веры, мотив отсутствия сна. Посмотрим, как развиваются они в повести Хармса.
Начнем, пожалуй, с уже отмеченной нами двери, и в том и другом случае служащей некой границей между временем и вечностью.
Действие начинается с того, что повествователь открывает дверь на стук старухи и впускает ее в комнату, совершая тем самым обыденный бытовой жест. Действие бытовое, но вот коридор, дверь, комната (две последних – точно) имеют, помимо прямого, еще и некое символическое значение.
Вспомним квадраты Малевича, которые он мечтал использовать как фасадный материал для формирования кубов вечности. Можно сказать, что старуха тоже существует между квадратом и кубом. В качестве второго представлена комната повествователя, первого – дверь, ведущая в нее из коридора (коридор, кстати, тоже может быть трактован в близком смысловом качестве). Если напрячь внимание, то можно без труда заметить, что старуха или стоит в двери, или подползает к ней со стороны комнаты (то есть – со стороны вечности в сторону времени).
Таким образом, дверь в «Старухе» служит неким подобием водораздела между временем и вечностью и даже материалистически репродуцирует строку из стихотворения Введенского: «Дверь в поэзию открыта». Ведь именно с нее, точнее – с просачивания старухи сквозь дверной проем в комнату повествователя-поэта, и он сам подвергается испытанием демонического свойства пиитизмом. Бесспорно также, что эта же дверь содействует общению с находящимся в близкой с поэзией областью загробного мира, и даже служит входом и в то, и в другое. Коридор в этом случае может восприниматься как неоднократно описанное людьми, пережившими клиническую смерть, промежуточное пространство между реальностью земной и загробной. И, соответственно, между временем и вечностью.
Подобно персонажам Введенского, старуха стоит перед дверью, открытую в то абсолютно безвременное пространство, которое они давно освоили (в особенности, если учесть, что она все еще вынуждена жить в реальном времени, лишь эпизодически наведываясь в него). Думается, и сам Хармс лишь просунул в это пространство голову через им же самим полуоткрытую дверь.
В свою очередь, персонажи Введенского обладают признаками той же нежити, какими обладает и Старуха. Более всего – обитатели совершенно конкретного времени в пьесе «Елка у Ивановых». Среди сходных нежитей, не уверенных в своем существовании, но активно передвигающихся, тем не менее, по мертвому, топологически неопределенному, но хронологически довольно точно обозначенному в смысле времени пространству – многочисленные персонажи пьесы «Очевидец и крыса», вызванные к жизни силой воображения поэта, обозначенного безличным Он:
Холод горы озаряет,
снежный гор большой покров,
а в снегу как лунь ныряет
конь под тяжестью ковров.
На коврах курсистка мчится,
омраченная луной.
На коня глядит волчица,
пасть облитая слюной.
Лежебока, бедный всадник,
мчится в тройке как лакей,
входит в темный палисадник,
кость сжимая в кулаке.
Отдает курсистке плеть он,
подает старухе трость.
Каждый час встречая тостом,
он лихую гладит кость.
А курсистка как карета
запыленная стоит.
С незнакомого портрета
глаз не сводит, и блестит.
Кстати, неопределенность и, вместе с тем, застылость времени косвенно обозначено в том же произведении словами историка Костомарова: «тринадцать лет. Двенадцать лет. Пятнадцать лет. Шестнадцать лет. Кругом одни кустарники».
Кустарники – это тоже своеобразные единицы времени. Сходный иероглиф в качестве одной из ключевых деталей присутствует и в более раннем произведении «Суд ушел»:
БОГ БОГ ГДЕ ЖЕ ТЫ
БОГ БОГ Я ОДИН
МЕЖДУ СЛОВ ДРОЖАТ КУСТЫ
БРОДЯТ ВЕНЧИКИ КАРТИН
Однако, что за фигуру представляет из себя поэт-демиург, из воображения переносящий создаваемый им мир в пространство условной реальности? Самого Введенского? Или, быть может, кого-то другого? Обратим внимание, что ассоциативный ряд, предложенный нам в этом стихотворении, вполне узнаваемый. Он целиком может даже целиком быть обозначенным посылами к сюжетам стихов Пушкина (первые две строфы, если из них исключить относящийся к более позднему времени образ курсистки – в особенности) , в первую очередь – словесным рядом, из которого стоит, в частности, выделить вполне пушкинское словечко «лежебока». Впрочем, и к другим поэтам его эпохи (да и более поздней) – не меньше, тогда и курсистка придется очень кстати. А если еще принять во внимание замечание тоже участвующего каким-то боком в действии писателя Грибоедова: «неизъяснимые волшебные видения мне душу посещают», - то почему бы не допустить, что некоторые функции повествователя-протагониста могут быть спроецированы и на эту не вполне реальную фигуру, призрачность который может послужить дополнительным свидетельством правильности такого предположения в ракурсах прежде намеченного контекста.
Мы не верим что мы спим.
Мы не верим что мы здесь.
Мы не верим что грустим,
Мы не верим что мы есть,
- несколько раннее вещает тот, кто обозначен местоимением Он.
О конце же эпохи (эпоха здесь выступает, может быть, в качестве не менее значимого знака конца, нежели более важные для Введенского вещи: полнота восприятия, понимание, коммуникативность, последовательность, сама цельность жизни, наконец), свидетельствует немыслимая частотность упоминаний слова «смерть», равно как и немыслимое количество уже реально свершающихся смертей в самом тексте (что, впрочем, обычно для Введенского). А также, если рассматривать их в исключительно специфическом - временном – контексте, стенания: «Где ты наш мир. Ни тебя нет. Ни нас нет».
Наличествуют также и слова, персонажи, эпизоды, корреспондирующие с написанной Хармсом спустя пять лет «Старухой». Прежде всего - со старухой-персонажем и несколько раз упоминаемыми часами. А в «Сцене на шестом этаже» - с «Елкой у Ивановых» самого Введенского, а именно – со сценой Лесоруба и Няньки. Это – заключительный (и крайне сниженный и тематически, и лексически по сравнению со всем предшествующим) монолог, который произносит Он:
Уже усталая свеча
пылать устала как плечо,
а все курсистка говорила –
целуй Степан еще еще.
Степан уж был совсем без сил,
он страшно вдруг заголосил:
я не могу вас целовать,
сейчас уйду в университет
наук ученье изучать:
как из металла вынуть медь,
как электричество чинить,
как слово пишется медведь
и он склонился как плечо
без сил на милую кровать.
Сравним с текстом «Елки у Ивановых» (Второе действие, картина Шестая):
Федор. Мне скучно с тобой. Ты не моя невеста.
Служанка. Ну и что же из этого.
Федор. Ты мне чужая по духу. Я скоро исчезну, словно мак.
Служанка. Куда как ты мне нужен. А впрочем хочешь еще раз.
Федор. Нет нет, у меня страшная тоска. Я скоро исчезну, словно радость.
Служанка. Что ж ты опять приговариваешь. Ведь ты же теперь в стороне от меня.
Федор. Я приговариваю просто так, от большого горя. Что мне еще остается.
Служанка. Горевать, горевать и горевать. И все равно тебе ничто не поможет.
Федор. И все равно мне никто не поможет. Ты права.
Служанка. А то может попробуешь учиться, учиться и учиться.
Федор. Попробую. Изучу латынь. Стану учителем. Прощай.
А теперь более близко, не подумайте чего плохого, приблизимся к хармсовской старухе – персонажу тоже явно из дореволюционной действительности, тоже вроде бы перешагнувшей в повесть Хармса из произведений Введенского. Отметим: это – не какая-то там деклассированная рвань, она вполне интеллигентная старая дама, обладательница прекрасных дореволюционных манер, знающая толк в обхождении. Тем неожиданней в ней черты некой потусторонней нечисти. Да и продает она, заметим, часы без стрелок, лишенные свойства определять время, становящиеся, таким образом, символом вневременной вечности, в которую приглашается и повествователь, и мы с вами. На пороге такой вот вечности читателя не раз встречал Введенский, вводил туда и давал возможность оглядеться. И даже, если не понравится тамошняя обстановка – то и вернуться назад, причем обратный путь тоже был заботливо продуман – вплоть до мелочей.
Сходными вхождениями и возвращениями отмечены и действия старухи. Вот как происходит такое перетекание из одного в другое в одном из ее эпизодов.
«Я отпер дверь и начал медленно ее открывать. Может быть, это только показалось, но мне в лицо пахнул приторный запах начавшегося разложения. Я заглянул в приотворенную дверь и, на мгновение, застыл на месте. Старуха на четвереньках медленно ползла ко мне навстречу. Я с криком захлопнул дверь, повернул ключ и отскочил к противоположной стенке...»
Здесь явно предлагается взгляд не на физику старого мира, но на его метафизику – причем с точки зрения современников Хармса. Одновременно с этой же точки зрения старуха могла бы выражать смерть старого мира. Может быть, она выражает эту смерть и у Хармса – но выражает, естественно, пародийно.
Ибо старуха воплощает собою именно старый мир, подлежащий уничтожению по теории пришедших к власти большевиков, и, что важней, так и не могущий быть уничтоженным. В этом смысле большой интерес представляет возня с ее трупом убийцы, не знающего, что с ним делать и куда его девать. Даже упрямое преследование старухой повествователя может быть (тоже пародийно) воспринять как давление над ним темного дореволюционного прошлого, не хотящего оставить в покое. И даже больше – невозможность расставания с наследием этого мира, к коему он привержен и даже сросся с ним, для него лично. Старуха в таком случае является видимым символом подсознания героя, приверженного прошлому и даже сожалеющего о нем. Свидетельством может служить фраза, сказанного им в минуту крайнего психологического напряжения: «вихрь кружил мои мысли, и я только видел жалобные глаза мертвой старухи, медленно ползущей ко мне на четвереньках».
Думается, именно за эти жалобные глаза повествователь и ненавидит свою гостью – до того, что готов пойти в отношении ее на самые крайние меры: «ворваться в комнату и раздробить этой старухе череп. Вот что надо сделать. Я даже поискал глазами и остался доволен, увидя крокетный молоток, неизвестно для чего уже в продолжении многих лет стоящий в углу коридора».
Крокетный молоток в качестве орудия, можно сказать, классовой борьбы для осовеченного Альтер эго Хармса – довольно, согласимся, оригинально.
Излагая эти соображения, я в некотором смысле становлюсь здесь на позицию современных Хармсу критиков, поставившими своей главной задачей любой ценой выискивать в произведениях анализируемых ими авторов тайную приверженность к проклятому прошлому в ущерб настоящему. Но, во-первых, задача эта стоит у меня далеко не на первом месте. Во-вторых, как это фантастически не звучит относительно Хармса, текст повести дает основания и для такого предположения. И, в-третьих, Хармс эти представления (если, конечно, мое предположение правильно и эта линия проведена им и вправду сознательно) пародирует. В таком случае сталкиваются не только мир бытовой и мир метафизический, мир живых и мир мертвых. А потому такой вариант, какой предлагаю я, вполне возможен.
Привожу несколько коротких фрагментов, свидетельствующих, на мой взгляд, о возможности крена в отмеченном направлении.
«В дверь кто-то стучит.
- Кто там?
Мне никто не отвечает. Я открываю дверь и вижу перед собой старуху... Я очень удивлен и ничего не могу сказать.
- Вот я и пришла, - говорит старуха и входит в мою комнату. Я стою у двери и не знаю, что мне делать: выгнать старуху или, наоборот, предложить ей сесть».
Здесь можно усмотреть пародийное отражение шатания интеллигента между приверженностью к старому времени и страхом признаться себе в этом.
В дальнейших сценах герой уподобляется с не выбирающем средств в борьбе с наследием проклятого империалистического прошлого люмпену.
- Сволочь, - крикнул я и, подбежав к старухе, ударил ее сапогом по подбородку.
Вставная челюсть отлетела в угол. Я хотел ударить старуху еще раз, но побоялся, чтобы на теле не остались знаки...
После этого герой лишается над собой ее власти, а старуха, в свою очередь, присущей ей раннее инфернальности.
«Брезгливый страх вызывала к себе эта мертвая старуха. Я приподнял молотком ее голову: рот был открыт, глаза закатились кверху, а по всему подбородку, куда я ее ударил сапогом, расползлось большое темное пятно. Я опустил голову. Голова упала и стукнулась на пол. ...Потом ногой и крокетным молотком я перевернул старуху через левый бок на спину. Ноги старухи были согнуты в коленях, а кулаки прижаты к плечам. Казалось, что старуха, лежа на спине, как кошка, собирается защищаться от нападающего на нее орла. Скорее, прочь эту падаль.
Я встал. Пора! Пора в путь! Пора отвозить старуху на болото».
Так и хочется исправить: на мусорку истории.
Смерть старухи, не забудем, помимо прямого значения, может символизировать еще и смерть ушедшего в небытие, а затем каким-то образом возродившегося времени. Таким образом, герой, воюя с человеком уничтоженного времени, воюет и с ним, и с самим собою, что отнюдь не странно. Ибо, будучи его пленником, он не желает, конечно же, быть его рабом: ни прошлого, ни настоящего, ни будущего, ни какого другого. Потому что он уже сейчас готов стать пленником вечности.