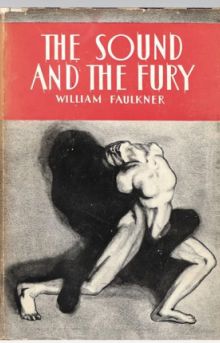Особый род цветаевской прозы: словно огненно растущей из её нервно-вибрирующих, вечно-раскалённых стихов; особость цветаевского Пушкина: белозубо-неистового, шампанского и яблочного, остро-жалящего и бичующего жандармов, бога студентов, и – остающегося тайной тайн…
Вспенивается речь: мерцают драгоценные сгустки смыслов: словно – из неожиданного сшибающихся глаголов и существительных высекаются искры новизны…
Любовь к поэту не разделить: тут – вроде бы односторонняя страсть; однако, нет: ведь и убитый давным-давно поэт отвечает, раскрываясь томами, и то, что Цветаева первое, что узнала о Пушкине: его убили – сразу даёт своеобразный остров-образ трагедии…
Все жили дальше, а его…
Чем они лучше?
Ведь лучше окажется – он!
Резко дымный выстрел, сероватые клубы, отдалённо цветом соответствующие снегу.
И пишет Цветаева – монументально-символически:
«Мещанская трагедия обретала величие мифа. Да, по существу, третьего в этой дуэли не было. Было двое: любой и один. То есть вечные действующие лица пушкинской лирики: поэт – и чернь. Чернь, на этот раз в мундире кавалергарда, убила – поэта. А Гончарова, как и Николай I, – всегда найдется.».
…она возносила само понятие «поэт» надо всеми: он поднимался в заоблачность, прикасаясь к алхимическим тайным бытия и символическим откровениям речи.
Тогда ещё – в её время: можно было (интересно, как бы отнеслась к «теперь», где – миллион людей, претендуя на звание «поэт», разместили сто миллионов стихов в интернете?).
Детские откровения мелькают в космосе Цветаевой: словно детскость – необходимое условие поэтической подлинности:
«Пушкин был негр. У Пушкина были бакенбарды (NB! только у негров и у старых генералов), у Пушкина были волосы вверх и губы наружу, и черные, с синими белками, как у щенка, глаза, – черные вопреки явной светлоглазости его многочисленных портретов. (Раз негр – черные).».
Она – словно свою судьбу рассматривает через призму Пушкина.
Или – дни свои строит, сверяясь с прочитанным, открытым, освоенным.
Или – путешествует в Пушкина, как в неведомую землю.
…памятник поэту возникает – как корреляция детских прогулок; и он же – становится «пространственной мерой» - для Цветаевой, меры ни в чём не знавшей.
Быт – отсюда – толкует презрительно; быт и бытие: для неё космические полюса, а не одно в другом.
Об Онегине говоря, пишет: «Быт? («Быт русского дворянства в первой половине XIX века».) Нужно же, чтобы люди были как-нибудь одеты.».
Для неё важно – только онтология, пусть даже это будет онтология отчаяния.
Для неё важны стихи – сущностной привязанностью к феноменам вечности: здесь подошёл бы аппарат средневековых схоластов – для точного истолкования.
…вокруг детства вращается цветаевское восприятие Пушкина, словно сама – жила только в двух ипостасях: детство и страдание.
Издания книг описывает так, что физически ощущаются, словно можно взять через её страницу:
«После тайного сине-лилового Пушкина у меня появился другой Пушкин – уже не краденый, а дарёный, не тайный, а явный, не толсто-синий, а тонко-синий, – обезвреженный, приручённый Пушкин издания для городских училищ с негрским мальчиком, подпирающим кулачком скулу.».
Издания книг, определяющих космос тайны, но и тут – они словно спускаются к ней из неведомости – уж не ангелы ли принесли?
Свежестью и остротой веют цветаевские прозаические периоды: мозаичные как будто, фрагментарно собирающиеся, и вместе – дающие ощущение поразительной целостности.
Целостность ядра.
Попадает в читательское сердце.
Нет, не должно убивать, но, добывая духовную кровь, нечто открывать, заставляя сопоставлять свой опыт с поэтовым…
А цветаевская поэзия продолжается и в Пушкине её, и во всей прозе, предложенной миру.