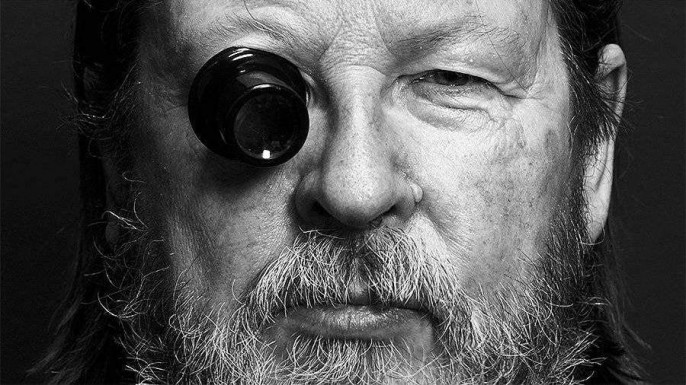«Танцующая в темноте» вспыхивает разномастным цветом, когда врываются фантазии Бьорк, нарушая лад реальности, склоняющей к самоубийству, о котором, как о запасном варианте жизни, говорит полицейский, но Сельма ему возражает: мол, нельзя…
И сама же отвечает другому персонажу, коли уж почти ничего не видит: А на что тут смотреть?
Грязные задворки, унылые пейзажи, монотонный поезд, фабрика…
Каждый вид – выверен, точно рассчитан математически, и эстетика фильма такова, будто он – всем своим завораживающим действом – происходит рядом с тобой, зрителем, можно войти, раздвинув границы реальности…
Сверх-успешная в жизни Бьорк, вписанная в обстановку болезни, нищеты, неудачи…
Потрясающая Катрин Денёв в такой же среде: есть в этом нечто парадоксально завораживающее, амбивалентность жизни закипает смертельно.
Смертельно всё и закончится: адски, страшно, в деталях показанное повешение…
…Кшиштоф Кесьловский сделал сие раньше: в двух вариантах своего великого кинематографа: стоило ли так – со всей физиологией, с адской бездной натурализма, эмоциональным шоком прихлопывая зрителя?
Или – так детализируя один из самых жутких моментов человечества – фон Триер утверждает недопустимость подобной расправы?
Не в средневековье мы…
…пока развернётся «Европа», застучат поезда, люди из Вервольфа будут вершить своё правосудие…
Изящно играя со стилистикой Фрица Ланга, разумеется, Триер говорит по-своему; фильмы его, снятые очень разнообразно, суммируют свой и только свой мир, чья неповторимость завораживает…
И надо всем – волшебно-жалобной, детской бабочкой порхает улыбка Бьорк-Сельмы, ничем не уступающая знаменитой улыбке Мазины из «Ночей Кабирии»…
В «Европе» цвет появляется впервые, когда возникает женщина, в купе вписанная, как в пожизненную камеру себя, своего тела; Триер, словно исследует особенно женский мир, показывая женщин…прекрасных и невероятных, часто… именно жалких: как героиня из «Идиотов» случайно попадающая в играющую эту колонию, героиня – как выяснится в конце, недавно потерявшая ребёнка.
…даже сцена группового секса из фильма – сцена, за которую Триера долбали, как за безнравственную, смотрится невинно, как ни парадоксально – детской игрой…
Развернётся действо «Догвилля» - театральное отчасти…
Декораций нет – мы в театре…чем-то отдающим вариациями Брехта; мы в театре, который есть кино, которое есть жизнь.
Декорации условны, как безусловен сумрачный колорит безнадёжности: прижившиеся к такой яви обитатели городка-дыры сами не понимают, насколько убога их жизнь.
Вероятно, она столь убога для того, чтобы появилась прекрасная Грейс, сбежавшая от папы – всевластного главаря концерна гангстеров…
Фильм-алхимия, фильм превращений: как жители, принявшие её, Грейс-Кидман, всем помогающую, восторженно заявляющие, что она расцветила их город и их жизнь, постепенно, не понять, как произошёл поворот, превращают её в сексуальную подстилку, в изгойку…
Человеческий протеизм, изменчивость сильно дерут зрительское сознание: непроизвольно сопоставляешь с вариантами собственной судьбы…
Любимое становится ненавистным.
Золотое тускнеет – в отличие от золота.
Опереточен ли финал фильма? Он только таков, какой мог быть в данном варианте, как стиль Достоевского, сколь бы хаотичным ни казался, не мог быть иным – бунинским языком громады Достоевского не изложишь; а в кинематографе Триера есть нечто от мучительного Фёдора Михайловича…
Снова вспоминается улыбка Бьорк: нежная бабочки детской невинности.
Финал «Догвилля»: Всех убить, город сжечь – логичен – как ещё мог поступить главарь гангстеров, вытаскивающий свою дочку из дыры, где над нею глумились – после того, как восторгались.
Она получит власть.
Могла ли получить счастье в городке, где принял её милый Том, так и не ставший писателем?
Ответ повисает театрально в воздухе; а разговоры о высокомерии, в котором обвиняет отца, как в гордыне, питают желание пересмотреть собственную жизнь.
Много в кинематографе Триера психологических изломов, игл, колющих сознанье, сексуальности, часто извращённой: просто исследование, данное через образный строй, через истории…рассказываемые, скажем «Нимфоманкой»…
Психопаткой хочется сказать, смешавшей счастье-несчастье в сосуде себя.
Как хороши были детские деревья – как мудро и тонко рассказывал о них отец: отец, который умрёт в клинике для алкоголиков, как Эдгар По, о котором поведает героине тот, с кем она проговорит весь вечер, и кого застрелит она: коли так повернулось…
Финал сильного рассказа Моэма вспоминается: «Дождь» завершается кратко: Он всё понял…
Толстой, знаток женской сексуальности, был бы ошарашен панорамами жизни «Нимфоманки», смешавшей Захера-Мазоха и Фрейда, Достоевского и… Триера: Триера-исследователя, Триера, насмехающегося над социумом; Триера, вдруг показывающего упоительно-хулиганское сексуальное путешествие двух оторв в недрах мчащегося экспресса…
«Идиоты» невинны – даже развратничая.
Они – дети, не желают вырастать, в их коммуне цветёт счастье: разумеется, цветы его будут сорваны, конечно, пытаться достигнуть внутренней чистоты, выпуская из себя негатив в мир – не получится; но они пробуют, пробуют, и пейзажи, раскрывающиеся вокруг так милы…
Он сложный – кинематограф Триера.
Он перегружен всем…
Он показывает совершенно невероятное: в «Рассекая волны», скажем – как можно алхимически грязь разнузданной сексуальности переплавить в жертвенность, как, погибнув, поможет жена обожаемому мужу встать с больничной койки: врачи говорят – невозможно.
И будут над ней, когда хоронят в море, звучать небесные колокола, будут – оправдано.
И будут сквозить, точно обжигая душу, холодные и негостеприимные виды Шотландии, где разместилась суровая, фанатично-религиозная община, не способная понять сущность действ героини.
Волынка нудно звучит.
Он светлый – кинематограф Триера: просто нужно пройти всеми этими сверх-сложными ответвлениями лабиринта, построенного им – чтобы понять: он светлый.
Достаточно, впрочем, вглядеться в улыбку Бьорк-Сельмы, которую повесят.