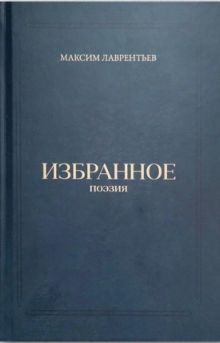Из трёх, вернее, из четырёх братьев Карамазовых брат Иван должен быть наиболее близок человеку нашего времени, в особенности – интеллигенту, замкнутому в своей скорлупе, полагающемуся более на свои мнения, чем на объективную реальность и при этом простым движениям сердца предпочитающий фантазии суетливого и много попечительного разума.
В главе «Бунт» в разговоре с младшим братом Алёшей Иван делает важное признание, которое в очень большой степени объясняет самую суть внутренних противоречий людей, подобных ему: он неоднократно и решительно настаивает на мысли о невозможности любви к ближнему и признавая уместной любовь к дальнему. И, что очень важно, выделяет главную причину своей убежденности.
Отметим, что Иваново неприятие Божьего мира, о котором он говорит далее, апеллируя, в частности к пресловутой слезе ребенка, которой якобы не стоит вся гармония будущего преображенного мира, порождена именно сочувствием дальним абстрактным людям. Недаром Иван в разговоре с Алёшей оговаривается насчет того, что хотел говорить вначале именно о земном человеческом страдании вообще, никак его поначалу не конкретизируя, и лишь затем решил опереться на частные случаи. Но ни один случай из тех, которые он далее приводит для подтверждения своего тезиса, не происходил у него на глазах, все они вычитаны им из газет, в том числе и пресловутая слеза ребенка, из-за которой он не хочет признать приемлемой Божественную гармонию, - что противоречит, кстати, дальнейшим его словам: «Я ничего не понимаю, и ничего теперь не хочу понимать. Я только хочу оставаться при фактах. Если же я захочу что-нибудь понимать, то я изменю факту».
На этих словах стоит остановиться, ибо не понимаю – это одно; а не хочу понимать – это нечто другое. Не понимаю – это действительно факт. Не хочу понимать из-за идеи – это акт своеволия.
Рассуждения Ивана, помимо прочего, удивительнейшим образом сближаются с коллизией, лежащей в основе гоголевской «Страшной мести», где, напомним, убитый близким другом герой, перепутав понятие земной справедливости с Божьей правдой, просит о принципиально неприемлемой для милующего Бога вечно длящейся мести для своего обидчика, свидетелем которой он обязательно был бы, и далее - для всего его рода: не только в этом мире, но и после смерти – вплоть до Страшного Суда и даже после него. Но ведь того же самого требует от Бога Иван Карамазов: «Мне надо возмездие, иначе ведь я истреблю себя. И возмездие не в бесконечности где-нибудь и когда-нибудь, а здесь, уже на земле, и чтоб я его сам увидел. Я веровал, я хочу сам и видеть, а если к тому часу буду уже мертв, то пусть воскресят меня, ибо если все без меня произойдет, то будет слишком обидно».
Здесь, кажется, камень преткновения для Ивана – в его желании, чтобы справедливость осуществлялась обязательно в согласии с его, Ивана Карамазова волей – и обязательно так, как представляет ее сам Иван. «Если же все происходит без меня, - говорит он далее, – я возвращаю Творцу билет в виде пропуска в рай. (Раем, кстати, в пользу собственного своеволия, жертвует и герой «Страшной мести»). Не для того же я страдал, чтобы собой, злодействами и страданиями моими унавозить кому-то будущую гармонию. Уж когда мать обнимется с мучителем, растерзавшим псами ее сына, и все трое возгласят: «Прав Ты, Господи!», то уж конечно, настанет венец познания, и все объясниться. Но вот тут-то и запятая, этого-то я не могу принять. И пока я на земле, я спешу взять свои меры. Видишь ли, Алёша, ведь, может быть, и действительно так случится, что когда я сам доживу до того момента али воскресну, чтоб увидать его, то и сам я, пожалуй, воскликну со всеми, смотря на мать, обнявшуюся с мучителем ее дитяти: «Прав Ты, Господи!», но я не хочу тогда восклицать. Пока ещё есть время, спешу оградить себя, а потому от высшей гармонии отказываюсь. Не хочу гармонии, из-за любви к человечеству не хочу. Я хочу лучше оставаться со страданиями неотомщенными. Лучше уж я останусь при неутоленном негодовании моем, хотя бы я был неправ».
Снова отметим в этом монологе слова о любви к человечеству, на котором зиждется внутренняя идея Ивана и которую необходимо разграничить с любовью к ближнему. Любовь к ближнему – это насущная конкретность, требующая немедленного и иногда ежеминутного жертвования собой в его пользу; любовь к некоему отстраненному и отдаленному человечеству – это, как правило, ни к чему, собственно, не обязывающая абстракция, дающая повод для бесплодной рефлексии или, что ещё хуже - пафоса. Интересно, что и чёрт, явившийся Ивану, которого тот признает своим двойником, тоже многословно говорит о своем гуманизме и человеколюбии, якобы ему не чуждым. «А ведь это ты взял у меня», - говорит пораженный этим очевидным в общем-то фактом Иван. Поэтому, далее: «Ты хочешь побороть меня реализмом». Т.е. - именно тем аргументом, которым раннее оперировал сам Иван, однако теперь он его не принимает, ибо наряду с существованием чёрта отвергает и фактологические доказательства, которыми тот, подражая ему, в свою очередь оперирует.
Большинство персонажей Достоевского ломаются не столько ни какой-либо коллизии реальной жизни, сколько на овладевшей ими идее. Иван – не исключение. «Можешь ли ты допустить идею, - спрашивает Иван у Алёши, - что это ты сам возводишь здание судьбы человеческой с целью в финале осчастливить людей, дать им наконец мир и покой, но для этого необходимо и неминуемо предстояло бы замучить лишь одно только крохотное созданьице, вот этого самого ребеночка, и на неотмщенных слезках его основать это здание, согласился ли бы ты быть архитектором на этих условиях?
- Нет, не согласился бы, - тихо проговорил Алёша».
Можно было бы задать другой вопрос: зачем допускать то, что в принципе для человека невозможно, ведь мироздание возводится не им, а Богом, и согласие или не согласие человека с Богостроительством ничего не меняет. Но зато меняет судьбу конкретного человека: согласие – в сторону пользы, несогласие – в сторону вреда для его же собственной души. Дело ведь не в том, согласен ты с существующим мироустройством, или хочешь строить его по иному, вопрос в ином: реальна ли сама возможность такого построения? Однако этот вопрос прагматичный Иван, опять таки, себе почему-то не задает. Может потому, что боится ответа на него. Примем во внимание ещё и тот неоспоримый факт, что Иван ничему и никому не верит, в том числе и себе самому; вспомним, что одной из причин, спровоцировавших его сумасшествие, послужило неверие в невиновность в убийстве отца старшего брата, и одновременно - в собственную невиновность в нем же. Поэтому вопрос о слезинке замученного ребенка мы можем повернуть ещё и так: поверил ли бы он его страданиям, видя их собственными глазами, а не читая в газете, т.е. если пресловутый плачущий ребенок из дальнего, газетного, стал бы ближним, может быть, даже его собственным, не усомнился ли бы он в их искренности? Или если менее жестко: не отверг ли бы он эту слезинку ввиду слишком уж вопиющей ее конкретности, что ли, и отверг бы именно из-за того, что слишком уж непереносимо это зрелище было для него самого? Другими словами: смог ли бы поставить свое собственное страдание ниже страдания того самого ребенка, из-за которого он «возвращает Творцу билет?» Мне, во всяком случае, как-то трудно представить этого гадливо отстраняющегося от людей гордеца, который, кстати, ни разу не замечен не то что в любви к детям, но и к кому бы то ни было, заступающегося за угнетаемого ребенка, случись описываемый в газете случай при нем. При виде страдающего на твоих глазах человека идею не выстроишь, да ее при таких обстоятельствах и некогда строить: тут возможен или немедленный поступок, диктуемый любовью и состраданием – или же отсутствие такового.
Способен ли Иван полюбить конкретного человека при всей его декларируемой любви к человечеству – это даже не вопрос. Ведь решительно не любит же он, например, брата Дмитрия, чувствуя к нему, по свидетельству повествователя, иногда лишь сострадание, да и то смешанное с презрением, доходящем до гадливости – а ведь этот брат Дмитрий, между прочим, во многих отношениях и есть тот самый обиженный ребенок, о слезах которого так ратует Иван. И, к тому же - человек, который будучи однозначно глупее, примитивнее и даже, может быть, безнравственней Ивана, в один момент, в озарении, понял необходимость искупления и поэтому на своем уровне смог в конечном счете разрешить тот самый роковой вопрос о мировой гармонии за счет слезы ребенка, который так и не дался Ивану: в том, что мучается и плачет дитя, виноват не Бог, виноват каждый из людей, потерявший в себе образ Божий и потому исказивший образ гармоничной вселенной: «Зачем мне тогда приснилось дите? «Отчего бедно дите?» Это пророчество мне было в ту минуту. За дите и пойду (на каторгу). Потому что все за всех виноваты. За всех дите, потому что есть малые дети, и большие дети. Все – «дите». За всех и пойду, потому что надобно же кому-нибудь и за всех пойти». И далее: «Да здравствует Бог и Его радость. Люблю Его!» Все эти высказывания удивительнейшим для такого бурбона образом перекликаются с поучениями старца Зосимы.
Вот на это заклание себя за всех, равно как и на любовь к Богу неспособен Иван. Потому так чревато для него решение рокового вопроса в ту или иную сторону, что и в Бога и в вечную жизнь он верует, однако Богоданных заповедей не признает; но и атеизму не доверяет. Почему же? Потому что, как признается в одной из бесед с отцом, понимает, что «прежде чем атеистическая истина просияет, вас же первого сначала ограбят, а потом упразнят». То есть - убьют. Поэтому, кстати, как один из вариантов компромисса между атеизмом и верой придумывает он Великого Инквизитора, в личности и поступках которого находит проекцию (и дальнейшее развитие) его главная идея, равно как и попытка ее реализации при гипотетических обстоятельствах.
Есть ли герой поэмы Ивана сам Иван, а если есть, то в какой степени?
На мой взгляд – в очень большой, и об этом свидетельствуют высказывания Великого Инквизитора, в той или иной мере соотносящиеся с рассуждениями автора поэмы, например: «преступления нет, нет, стало быть, и греха, а есть лишь только голодные» (у Ивана – обиженные дети). Или: «свобода и земной хлеб вместе не мыслимы». Или, наконец, слова Инквизитора, обращенные ко Господу: «рассердись, я не хочу любви Твоей, потому что не люблю Тебя (а главная трагедия Ивана, напоминаю ещё раз, как раз в том, что ни на какую любовь, тем более - к Богу, он не способен). Во всех этих фразах напрямую отражается философия Ивана, тем более что свою причастность к ней Великого Инквизитора он недвусмысленно раскрывает перед Алёшей сразу же после изложения ему содержания поэмы. Показательна реакция Алёши. «Инквизитор твой не верует в Бога, вот и весь его секрет», - восклицает он. – «Наконец-то ты догадался», - говорит Иван.
Но в дальнейшем сюжете романа эта философия, помимо личности Великого Инквизитора находит свое отражение в виде ещё целого ряда кривых зеркал, нашедших наглядное воплощение в персонажах, чрезвычайно точно выявляющих и кривизну, так сказать, самой идеи, и ее прародителя, существующих как бы в неком отдалении от оригинала (Ракитин), так и виде наглядном, постоянно маячащем перед его глазами (Смердяков), и даже в виде галлюцинации, возникшей вследствие болезни (чёрт). «Я с тобой одной философии», - замечает последний.
Теперь о том, во что верит Иван. Единственное, во что он верит - в собственную свою галлюцинацию в виде чёрта, который предстает перед ним в виде пошловатого господина – и пошлость эта очень важна, ибо она является обратной стороной демонической гордости, свойственной Ивану: именно осознание этой пошлости в самом себе приводит Ивана в ужас («нет, я никогда не был таким лакеем, - кричит он. - Почему же душа моя могла породить такого лакея как ты?). Главное же в том, что у Ивана волею создавшего его автора присутствует парадоксально противоречащая его крайнему эгоцентризму чёрта, странно уживающаяся с ним, о которой сам Иван не то что иногда забывает, но как-то не берет в расчет. Это - совесть. У совестливости Ивана говорят многие близкие ему люди, например Катерина Ивановна. Но до конца разгадывает, кажется, неразрешимые дилеммы, порожденные характером Ивана, его младший брат, которому «становилась понятною болезнь Ивана: «Муки гордого решения, глубокая совесть». Бог, Которому он не верил, и правда Его одолевала сердце, все ещё не хотевшее подчиниться. – Алёша тихо улыбнулся: - Бог победит, подумал он. – Или восстанет в свете правды, или погибнет в ненависти, мстя себе и всем за то, что послужил тому, во что не верит» - горько прибавил Алёша и опять помолился за Ивана».
Забегая вперед, отметим, что именно Бог, лишив Ивана ума, тем самым дал ему возможность восстать в правде после болезни, но возможность или невозможность этого преображения так навсегда и останется за рамками романа. Зато в этих же рамках происходит своеобразное преображение лакея Смердякова, в последнем разговоре с Иваном упоминающего о присутствующем при их разговоре третьем, т.е. - Боге; причем, что интересно, присутствие этого третьего признает и сам Иван, но он подразумевает при этом чёрта. Кстати, судьба Смердякова лично для меня кажется едва ли не трагичней судьбы запутавшегося между Богом и дьяволом Ивана, ибо у последнего уже в силу диалектичности его ума есть возможность того или иного выбора; предельно же рациональный ум Смердякова, имеющий ещё больше сходства с умом современного тупицы прагматика, отрицающий поначалу меру личной ответственности за поступок и, помимо Первой Заповеди, нарушившего ещё и Вторую (умолчим о попутном нарушении Третьей, Пятой, Шестой, Восьмой и Девятой) и сотворившего себе кумира в лице Ивана, знает только или – или: или Бога нет и все позволено, значит нет и наказания; или же позволено не все – и тогда, значит, есть и Божья кара. Поэтому для него, патологического труса, лишившегося прикрытия после разочарования в Иване, неизбежно следующее вслед за этим самоубийство. Но очевидна также связь этого самоубийства с сумасшествием Ивана, тем более, что происходят они едва ли не в один и тот же час (недаром о самоубийстве Смердякова извещает Ивана явившийся ему чёрт еще до того, как об этом сообщит постучавшийся в окно Алёша).
Что же касается того, во что не верит Иван, то здесь следует очередной парадокс в духе Достоевского: не верит он в то, во что, как ему кажется, он верит, а именно: соединению в человеческом уме веры в Бога (а о своей вере в Бога, напомним, он говорит Алёше в трактире) с искусственно культивируемом ради идеи атеизме, о чем тоже говориться в романе не раз. Более всего - в разговоре с чёртом.
Небезынтересен вопрос, что собой представляет этот персонаж: воображаемого ли двойника Ивана, порождения его мучающей совести или же настоящего чёрта (вспомним, что подобный персонаж являлся и близкому Ивану Николаю Ставрогину в «Бесах»). Трудно дать на него какой либо однозначный ответ. Но не невозможно. Для этого нужно перевести его в другую плоскость: почему Иван воспринимает этого персонажа именно как чёрта? Для этого стоит обратиться к тексту романа.
Там есть одна реплика, которая очень глубоко, на мой взгляд, раскрывает этот вопрос, а заодно и саму суть внутренних противоречий Ивана, и звучит она так: «в Бога верить ретроградно, а в чёрта можно». А далее следует диалог, из которого можно вывести реальность чёрта не только как порождение совести Ивана в виде своего опошленного отражения, но как самого настоящего чёрта, запутывающего Ивана беспрерывным балансированием между правдой и вымыслом. Этого глумления не выдерживает и без того тщетно пытающийся найти точку опоры между принятием Бога и Его отрицанием и оттого предельно расстроенный поставленной перед ним и принципиально не решаемой ни в какую сторону задачей ум Ивана. Вспомним сцену в келье в самом начале романа. «В вас ваш вопрос не решен (имеется в виду вопрос веры в Бога и в бессмертие души), - говорит Ивану старец Зосима, - и в этом ваше великое горе, ибо настоятельно требует разрешения». – «А может ли он быть во мне решен в сторону положительную?» – спрашивает Иван. – «Если не может решиться в положительную, то никогда не решится и в отрицательную», - отвечает старец. И - как в воду глядит: участь Ивана, не в силах далее сносить муку безверия, разрешает Бог в виде посланного ему сумасшествия – и тем самым дает ему возможность смирения перед Своим Промыслом, не зависящим ни от ума спасаемого, ни от его воли. Ведь, по выражению искушающего Ивана чёрта, «колебания, беспокойство, борьба веры и неверия – это иногда такая мука для совестливого человека, вот как ты, что лучше повеситься». И как знать, как бы распорядился своей жизнь Иван, если бы не это сумасшествие. Показательно, что посылается оно ему во время весьма иронично описанного Достоевским суда, служащего наглядным подтверждением той самой главной мысли, обсуждением которой были заняты гости старца Зосимы в первой части романа, а именно: не земной, юридический суд может определять судьбу согрешившего преступника, но единственно суд Христов, сказывающийся, по выражению старца, «в сознании собственной совести».
Именно этот суд, происходящий в душе братьев Карамазовых, и меняет их судьбы в финале. И если даже столь глубоко плотский, дремучий и гремучий организм, определенный термином карамазовщина, в конечном счете оказывается неотъемлемым от Бога, Которого он пытается отвергнуть, значит, не все так безнадёжно в отдающем хаосом карамазовском мире. Ради этой простой, местами назойливо проводимой между строк мыслью и писался, наверно, самый сложный, запутанный и трудно одолимый для современного читателя роман Достоевского, в текст которого ему неплохо было бы внимательно вчитаться хотя бы по причине близости к нему героя этих заметок. А может даже и нескольких, в лице всех Карамазовых.