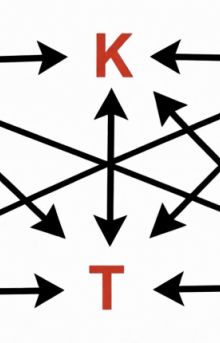Историки (да и многие ценители) отечественной литературы отводят фигуре Алексея Константиновича Толстого (1817-1875) место где-то в тени двух его младших родственников-Николаевичей: Льва (1828-1910) и Алексея (1883-1945). Известно, что автор "Войны и мира" доводится "старшему" Толстому троюродным братом, а автор "Хождения по мукам" — внучатым племянником в четвертом колене.
Впрочем, как сказать: "в тени"? Ведь произведения, написанные лично Алексеем Константиновичем и при его участии, вне всякого сомнения, навсегда вошли не только в классический "золотой фонд" отечественной литературы, но и в русский "генетический культурный код", в нашу "культурную матрицу"… То есть не в тени как таковой тут, наверное, дело.
Напомню, что граф Лев Николаевич Толстой был, по определению Ленина, "зеркалом русской революции", "первым настоящим мужиком в русской литературе", а граф Алексей Николаевич Толстой — вообще "красным барином" и любимцем "отца народов" Сталина, они полностью соответствовали своему "духу времени".
Алексей же Константинович — Толстой по фамилии, но Разумовский-Перовский по сущности своей — никакому "духу времени" категорически не соответствовал, и даже не спорил с ним, а, скажем так, духом и временем этим брезговал и по возможности их чурался.
Двух станов не боец, но только гость случайный,
За правду я бы рад поднять мой добрый меч,
Но спор с обеими — досель мой жребий тайный.
И к клятве ни один не мог меня привлечь.
А уж как оба эти стана желали заполучить такого бойца! Настоящего былинного богатыря: и тела, и духа.
"Граф Алексей Толстой был в то время красивый молодой человек, с прекрасными белокурыми волосами и румянцем во всю щеку. Он еще более, чем князь Барятинский, походил на красную девицу; до такой степени нежность и деликатность проникала всю его фигуру. Можно представить моё изумление, когда князь… стал рассказывать многие действительные опыты силы Толстого: как он свёртывал в трубку серебряные ложки, вгонял пальцем в стену гвозди, разгибал подковы", — свидетельствует, например, Василий Инсарский. А еще — так, к слову — наш герой перебрасывал двухпудовую гирю через одноэтажный дом, сворачивал винтом железную кочергу и, вообще, всю свою жизнь богатырствовал вволю…
Не случайно русские богатыри всегда были героями его творчества — правда, типу Алёши Поповича, куда более близкому для себя, он всегда предпочитал тип Ильи Муромца.
Под бронёй с простым набором,
Хлеба кус жуя,
Едет лесом, едет бором
Дедушка Илья…
И ворчит Илья сердито:
«Ну, Владимир, что ж?
Посмотрю я, без Ильи-то
Как ты проживешь?
Ну, вот и представьте себе такого "дедушку Илью", да еще прекрасно образованного, свободно владеющего пятью иностранными языками, где-нибудь в министерстве или в прогрессивном журнале…
В каком-то смысле его тоже можно назвать демократом, но это был демократизм не "снизу", а "сверху" — демократизм аристократического маскарада, где "все свои" и "без чинов". От наперсника детских игр Александра II, от человека, с младых ногтей вовлеченного в жизнь, явную и тайную, "высшего света" Российской империи, трудно было ожидать иного. И если ему чем-то действительно претила сначала "николаевская", а затем и "александровская" Россия — так это как раз своей "казарменной демократией", блестяще, безукоризненно, на все времена высмеянной в сатире "Сон Попова", которая датирована летом 1873 года, но легко может быть спроецирована в любое время, вперёд или назад:
"Вошёл министр. Он видный был мужчина,
Изящных форм, с приветливым лицом,
Одет в визитку: своего, мол, чина
Не ставлю я пред публикой ребром.
Внушается гражданством дисциплина,
А не мундиром, шитым серебром,
Всё зло у нас от глупых форм избытка,
Я ж века сын — так вот на мне визитка!..
Министр меж тем стан изгибал приятно:
«Всех, господа, всех вас благодарю!
Прошу и впредь служить так аккуратно
Отечеству, престолу, алтарю!
Ведь мысль моя, надеюсь, вам понятна?
Я в переносном смысле говорю:
Мой идеал полнейшая свобода —
Мне цель народ — и я слуга народа!
Прошло у нас то время, господа, —
Могу сказать; печальное то время, —
Когда наградой пота и труда
Был произвол. Его мы свергли бремя.
Народ воскрес — но не вполне — да, да!
Ему вступить должны помочь мы в стремя,
В известном смысле сгладить все следы
И, так сказать, вручить ему бразды.
Искать себе не будем идеала,
Ни основных общественных начал
В Америке. Америка отстала:
В ней собственность царит и капитал.
Британия строй жизни запятнала
Законностью. А я уж доказал:
Законность есть народное стесненье,
Гнуснейшее меж всеми преступленье!
Нет, господа! России предстоит,
Соединив прошедшее с грядущим,
Создать, коль смею выразиться, вид,
Который называется присущим
Всем временам; и, став на свой гранит,
Имущим, так сказать, и неимущим
Открыть родник взаимного труда.
Надеюсь, вам понятно, господа?.."
Не те ли самые слова из тех же самых уст мы слышали и вчера, и сегодня, и, скорее всего, еще не раз услышим в будущем? Тем более, что при виде «бесштанного» Тита Евсеича Попова министр становится «ещё прекраснее во гневе»:
«Что это значит? Где вы рождены?
В Шотландии? Как вам пришла охота
Там, за экраном снять с себя штаны?
Вы начитались, верно, Вальтер Скотта?
Иль классицизмом вы заражены?
И римского хотите патриота
Изобразить? Иль, боже упаси,
Собой бюджет представить на Руси?»
Я жертвую агентам по две гривны,
Чтобы его — но скрашиваю речь, —
Чтоб мысли там внушить ему иные.
Затем ура! Да здравствует Россия!»
Точно так же безукоризненно, на века "выпороть словом" высокопоставленного чиновника, конкретно — начальника управления по делам печати Михаила Лонгинова, который "из лучших побуждений" пытался запретить издание трудов Чарльза Дарвина, мог только аристократ чистой воды.
Полно, Миша! Ты не сетуй!
Без хвоста твоя ведь ж.па,
Так тебе обиды нету
В том, что было до потопа…
Способ, как творил Создатель,
Что считал Он боле кстати —
Знать не может председатель
Комитета по печати.
Собственно, и классическая маска Козьмы Пруткова, "директора Пробирной Палатки", созданная Толстым в содружестве со своими двоюродными братьями Жемчужниковыми, имеет те же корни "маскарадной", "карнавальной" сатиры — впрочем, доведенной до такого уровня совершенства, на котором она уже начинает отрицать саму себя: "Если на клетке слона прочтёшь надпись "буйвол", не верь глазам своим!", "Где начало того конца, которым оканчивается начало?", "Если хочешь быть счастливым, будь им", "Бросая в воду камешки, смотри на круги, ими образуемые; иначе такое бросание будет пустою забавою", — и так далее… Кстати, случайно ли облик булгаковского Шарикова в фильме "Собачье сердце" 1988 года имеет почти портретное сходство с "каноническим" изображением Козьмы Пруткова?
"Его главною духовною стихией была свобода — опять-таки в идеальном значении этого слова", — подобными свидетельствами современников об Алексее Константиновиче Толстом можно заполнить не одну книгу (в данном случае цитата принадлежит князю В.П. Мещерскому).
Тот же аристократический идеал личной свободы, сопряжённой со служением "пользе Отечества" — в его лирических стихах, в романе "Князь Серебряный", в драматической трилогии "Смерть Иоанна Грозного", "Царь Федор Иоаннович" и "Царь Борис", где именно этот идеал Толстой не только воспевает, но и выдаёт за "корень" воцарения династии Романовых.
Самое важное — никакого разрыва между жизнью и творчеством, хотя долгое время Алексей Константинович жертвовал вторым ради того, что считал своим долгом, участвовал в Крымской войне, был ранен…
В письме к Александру II, приложенном к прошению об отставке, которое было подано в сентябре 1861 года, он писал: "Служба и искусство несовместимы, одно вредит другому, и надо делать выбор. Большей похвалы заслуживало бы, конечно, непосредственное деятельное участие в государственных делах, но призвания к этому у меня нет, в то время как другое призвание мне дано. Ваше величество, мое положение смущает меня: я ношу мундир, а связанные с этим обязанности не могу исполнять должным образом.
Благородное сердце Вашего величества простит мне, если я умоляю уволить меня окончательно в отставку, не для того чтобы удалиться от Вас, но чтобы идти ясно определившимся путем и не быть больше птицей, щеголяющей в чужих перьях. Что же касается до Вас, государь, которого я никогда не перестану любить и уважать, то у меня есть средство служить Вашей особе, и я счастлив, что могу предложить его Вам: это средство — говорить во что бы то ни стало правду, и это — единственная должность, возможная для меня и, к счастью, не требующая мундира".
Да, то самое, пушкинское: "И истину царям с улыбкой говорить", — но только в жизни, "весомо, грубо, зримо"…
Пушкин вообще был для Толстого примером и образцом — тем более, что он, благодаря своему дяде и "второму отцу" Алексею Алексеевичу Перовскому, в литературе известному под псевдонимом Антоний Погорельский, с юных лет лично знал величайшего русского поэта, чьи произведения всю жизнь мог цитировать на память без единой ошибки "целыми поэмами"…
Тут всё очень плотно и в некотором роде таинственно переплетено.
Откуда, например, пушкинский "кот учёный" из добавленного в 1828 году "Пролога" к поэме "Руслан и Людмила"?
"У лукоморья дуб зелёный;
Златая цепь на дубе том:
И днем и ночью кот учёный
Всё ходит по цепи кругом…"
Не оттуда ли, от Погорельского? Ведь 25-летний Пушкин писал брату Льву из Михайловского в Петербург 27 марта 1825 года: "Душа моя, что за прелесть бабушкин кот (у Погорельского — "Лафертовская маковница". — В.В.)! Я перечёл два раза и одним духом всю повесть — теперь только и брежу Тр. Фал. (у Погорельского — Аристархом. — В.В.) Мурлыкиным. Выступаю плавно, зажмурив глаза, повертывая голову и выгибая спину — Погорельский ведь Перовский, не правда ли?" А ведь Погорельский встречался во время "наполеоновского похода" русской армии в Европу с множеством европейских писателей, включая Иоганна-Вольфганга Гёте, а также Эрнста-Теодора Гофмана, чей знаменитый кот Мурр, таким образом, через своего "родного братца" Аристарха Мурлыкина может оказаться "двоюродным дядькой" пушкинского "кота учёного".
Интересно, что про самую известную повесть Погорельского "Чёрная курица, или Подземные жители" (1829), написанную им как раз для своего любимого племянника, черты характера которого были использованы автором в образе главного героя — по имени Алёша, разумеется, — Пушкиным не было сказано ни слова…
Погорельский в 1827 году, отправившись вместе с сестрой и племянником в очередную поездку по Европе, "по старой памяти" заехал в гости к Гёте — так 10-летний Алёшенька Толстой лично познакомился с великим автором "Фауста", который подарил мальчику "кусок мамонтового клыка с собственноручно нацарапанным изображением фрегата" и личной подписью. "От этого посещения, — вспоминал впоследствии Толстой, — в памяти моей остались величественные черты лица Гёте… к которому я инстинктивно был проникнут глубочайшим уважением, ибо слышал, как о нём говорили все окружающие…"
Всё это — лишь немногие факты, важные для понимания истоков и значения "феномена А.К.Толстого" для отечественной литературы и культуры в целом. Желающим получить более полное представление о жизни и "родовых корнях" этого писателя можно порекомендовать прекрасную биографию, написанную таким же "аристократом духа" Дмитрием Анатольевичем Жуковым (издана в 1982 году "Молодой гвардией" в серии "ЖЗЛ").
Именно поэтому в ней оказались возможными такие «неуместные артефакты», как Алексей Константинович Толстой, явно выходящий за рамки привычного деления на прошлое, настоящее и будущее. Ведь он идентифицировал себя… с европейским рыцарством: «У меня забилось и запрыгало сердце в рыцарском мире, и я знаю, что прежде к нему принадлежал» (из письма к Софье Бахметевой-Миллер от 4 сентября 1856 года о впечатлениях от посещения замка Вартбург в Тюрингии). За четверть века до этого, после поездки по Европе: «Из Венеции мы поехали в Милан, Флоренцию, Рим и Неаполь, и в каждом из городов рос во мне мой энтузиазм и любовь к искусству, так что по возвращении в Россию я впал в настоящую тоску по родине, в какое-то отчаяние, вследствие которого я днём ничего не хотел есть, а по ночам рыдал, когда сны меня уносили в мой потерянный рай…»
Но какое отношение мог иметь Алексей Константинович Толстой к романтизму: хоть «позднему», хоть «раннему», хоть какому угодно еще, — объективно, в качестве художника? Особенно — если понимать «художественный метод», романтизм — в том числе, как самый общий способ эстетического отражения действительности, задающий соотношения, опосредованные в философии фундаментальными категориями Всеобщего, Особенного и Единичного, а также Части и Целого, Причины и Следствия). Видимая доступность этих категорий обманчива как видимая доступность горных вершин: без соответствующей подотовки и оснащения неизбежен провал, срыв в метафизические бездны.
Так, например, известное определение Ф.Энгельсом литературного реализма: «типические характеры в типических обстоятельствах», — нельзя корректно и вообще адекватно использовать в практическом литературоведении без правильного понимания «типического» как Всеобщего в Единичном. «Всё это — больше, нежели портрет или зеркало действительности, но более похоже на действительность, нежели действительность походит сама на себя, ибо всё это — художественная действительность, замыкающая в себе все частные явления», — так объяснял В.Г.Белинский реализм Н.В.Гоголя.
Романтизм, отражающий в Единичном, через образ, уже не Всеобщее, но Особенное — как раз на этом уровне противостоит реализму. Знаменитый конфликт «героя и толпы» есть художественное выражение качественного отличия феноменов Особенного от массовидных феноменов Всеобщего. Поэтому для романтизма Трагическое — не просто центральная или высшая эстетическая категория, но категория сущностная, всепроникающая. Соответственно, всякий художник, берущий для отражения некие явления действительности именно как феномены Особенного, есть романтик.
Но эти феномены неустойчивы, они всегда суть либо момент перехода Единичного во Всеобщее, либо обратный момент — деградации Всеобщего в Единичное. Обе эти возможности подаются (например — советским литературоведением), соответственно, как романтизм «революционный» и романтизм «реакционный»…
Но ведь у А.К.Толстого как писателя никакого повышенного внимания к «романтической» категории Особенного при всём желании обнаружить не удастся — скорее, он сосредоточен даже на проявлениях в Единичном не Всеобщего, но Абсолютного, хотя прекрасно понимает невозможность «объять необъятное», но стремится именно к этому. К Чуду и Тайне, с большой буквы. И — находил ведь: в женщине, в природе, в любви, надежде и вере.
Колокольчики мои, цветики степные,
Что глядите на меня, тёмно-голубые?..
Средь шумного бала, случайно,
В тревоге мирской суеты
Тебя я увидел, но тайна
Твои покрывала черты...
Для А.К.Толстого — и в творчестве его и в жизни — была характерна высшая форма аристократизма: удивительная соразмерность, гармоничность, понимание собственного масштаба перед миром — но не бунт против этого мира, а смиренное восхищение всем сущим. Смиренное — даже в готовности смирить всех, сущим не восхищенных, а тем более — пытающихся уничтожать или даже умалять это сущее — вот тут его сатира становится воинствующей… И когда дело касается «преданий старины глубокой», и — особенно — когда речь идёт о современной ему действительности. Он зорок и беспощаден, развенчивая, по Фрэнсису Бэкону любых «идолов рода», «идолов пещеры», «идолов площади» и «идолов театра». Взять хотя бы знаменитую «Историю государства Российского от Гостомысла до Тимашева»:
И вот пришли три брата,
Варяги средних лет.
Глядят: страна богата,
Порядка ж вовсе нет…
В то время очень сильно
Рацвел России цвет,
Земля была обильна,
Порядка ж нет как нет.
Последнее сказанье
Я б написал мое,
Но чаю наказанье,
Боюсь monsieur Veillot.
Ходить бывает склизко
По камешкам иным…
Итак, о том, что близко,
Мы лучше умолчим…
Или незабвенный «лазоревый полковник» из уже упомянутого выше «Сна Попова»:
Но дверь отверзлась, и явился в ней
С лицом почтенным, грустию покрытым,
Лазоревый полковник. Из очей
Катились слёзы по его ланитам.
Обильно их струящийся ручей
Он утирал платком, узором шитым,
И про себя шептал: «Так! Это он!
Таким он был едва лишь из пелён!..»
И там же — едчайший сарказм на официальный, как сейчас сказали бы, дискурс:
Но ты, никак, читатель, восстаёшь
На мой рассказ? Твоё я слышу мненье:
Сей анекдот, пожалуй, и хорош,
Но в нём сквозит дурное направленье.
Всё выдумки, нет правды ни на грош!
Слыхал ли кто такое обвиненье,
Что, мол, такой-то — встречен без штанов,
Так уж и власти свергнуть он готов?
И где такие виданы министры?
Кто так из них толпе кадить бы мог?
Я допущу: успехи наши быстры,
Но где ж у нас министер-демагог?
Пусть проберут все списки и регистры,
Я пять рублей бумажных дам в залог;
Быть может, их во Франции немало,
Но на Руси их нет — и не бывало!
И что это, помилуйте, за дом,
Куда Попов отправлен в наказанье?
Что за допрос? Каким его судом
Стращают там? Где есть такое зданье?
Что за полковник выскочил? Во всём,
Во всём заметно полное незнанье
Своей страны обычаев и лиц,
Встречаемое только у девиц…
Никакой романтический герой, никакой «Байрон нечерноземной полосы», «москвич в гарольдовом плаще» тут и рядом не стоял. — это своего рода сверхреализм. Такой же невероятный, но и несомненный, как "сверхреализм" Александра Сергеевича Грибоедова, чьё "Горе от ума" — едва ли не единственный шедевр отечественной, да и мировой литературы, безусловно выполняющий фундаментальное теоретическое требование классицизма: единство места, времени и действия. Это — в 1825 году, когда про классицизм в Европе никто уже и не вспоминал…
Когда-то давно первая строка песни Владимира Высоцкого "Две судьбы": "Жил я славно в первой трети…", — в магнитофонных записях почему-то слышалась мне так: "Жил я славно, первый-третий…" Сейчас эта странная слуховая аберрация почему-то вспомнилась — и, на мой взгляд, она вполне подходит в качестве заголовка статьи об Алексее Константиновиче Толстом, который среди своих великих литературных родственников-однофамильцев вроде бы третий, но одновременно — и первый…
Илл. К.Брюллов. Портрет графа А.К. Толстого в юности. 1836