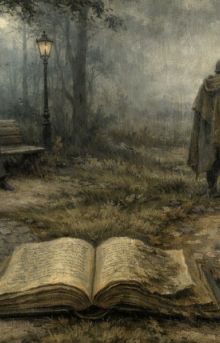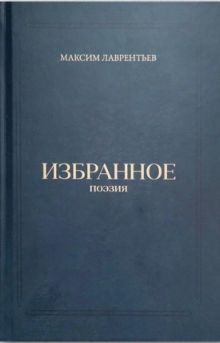Нравится вам или нет, я буду в этой статье чувствовать себя свободно и легко. Причины следующие. Во-первых, первая часть «Совдетства» вышла уже давно – в 2021 году, и всё самое важное, необходимое товарищи уже сказали. Во-вторых, я остановлюсь именно на стартовом томе с подзаголовком «Книга о светлом прошлом». Другие – их уже два, а будет ещё последний – скорее всего, читать не буду. Не потому, что не понравилось. Еще как понравилось!
Но аскеза профессионального читателя оторвёт меня от проекта Юрия Полякова и потащит к более кризисным книжкам, где нет такого ясного света и оптимистичного бытия моей страны. В-третьих, советское детство было и у меня. Поляков, рожденный в 1954-м, получил его в 60-х. Автор этих строк, появившийся в 1967-м, по-настоящему встретил пионерское солнце во второй половине 70-х – начале 80-х. В Москве я бывал, столицу тех давних лет помню объемно, так что Юрий Поляков для меня в «Совдетстве», как старший брат. Фамильярничать не буду. Однако действительно Полякову благодарен. За то, что о детстве наконец написал не Мисима, не Лимонов и не Оксана Васякина. Рассказал человек, свободный от почесывания травм и бравого эгоцентризма, от обвала души прямо сразу, без специальных извинений.
Меня будут интересовать две проблемы. Первая как раз связана со словом «ойкумена». Герою Юрию Полуякову (он пребывает в 1968-м) объясняют, что так с древних времен называют обитаемую часть суши, доступный для движения и освоения мир. Так что глянем на вселенную московского пионера из рабочей семьи. Вторая проблема – другие шестидесятые, иные «шестидесятники». Творческую интеллигенцию, размахивающую флагом элитарного, эстетского антисоветизма, все мы хорошо знаем. Плохо ли хорошо прошли они свой путь, сильно причастны или не очень причастны к распаду Большой России – не вопрос, сейчас не вопрос. Я особо не нуждаюсь в Евтушенко, Аксёнове или Галиче, а кто-то им по гроб благодарен. Да и ладно! Главное, что Поляков пишет о простом народе, живущем в 60-е годы XX века. О народе у нас писать разучились. А когда всё же дерзают к нему обратиться – как Марина Степнова в «Хирурге», Светлана Алексиевич во «Времени second-hand», Людмила Улицкая* в «Зелёном шатре» или Дмитрий Быков* в «Июне» - получается совсем дрянь. Так тут дело не в народе, а в озабоченных авторах, чья миссия создавать сюжеты внешней и внутренней эмиграции!
Центр ойкумены Юрочки – общежитие маргаринового завода. Папа (Тимофеич) работает электриком, мама (Лида) занимает почетный, но совсем не хлебный пост секретаря заводской партийной организации. Ещё есть младший брат Сашка («вредитель»), оставшийся без особой симпатии мальчика-рассказчика. Плохое определение я придумал для обозначения этих чувств: «однокомнатная любовь». Но это действительно так! В тесноте очень скромных метров располагается житейская школа взаимных компромиссов и совместного движения по дорогам повседневности. Объединяет телевизор, вечно транслирующий оперу «Князь Игорь», мамина стряпня с коммунальной, забитой народом кухни. Учат отношения между Тимофеичем и Лидой: отец, разумеется, весьма часто хочет выпить, а мама контролирует и дозирует опасное удовольствие; мать суетлива и забывчива, она – «кулёма», папа слишком часто уединяется с мужиками для игр и спонтанных застолий, а еще в разговорах мелькает какая-то подозрительная «Тамара», да и рубашки бывают со следами помады; иногда Тимофеич что-то хочет в постели от Лиды, а она категорически отказывает, ссылаясь на неспящего Профессора (главная из семейных кличек Юры); родители часто ссорятся в присутствии сына, отец собирает чемодан, грозит уйти или даже уходит к бабушке, но все знают, все уверены, что здесь никто никого не бросит навсегда. Хотя и без пафоса живут, без поэзии интеллигентской, с привычными разговорами и маленькой, почти этикетной ревностью с двух сторон.
Власть для Юры – любой взрослый: бывает и окрик, но чаще совет, интересное толкование непонятных слов, осторожное погружение в уже не подростковые сферы. Есть и высшая, далекая, телевизором приближаемая власть: недавно снятый Хрущёв, ещё энергичный Брежнев, один раз с матерью встретили Андропова возле здания КГБ, недавно погиб Гагарин, только что умер Рокоссовский.
И смерть полководца, снова и снова возвращающаяся в повествовании, будто посылает сигнал об уходе героической эпохи и о наступлении времен, уже лишенных защиты эпических людей. Впрочем, тревога не мешает общежитским мужчинам достойно помянуть командира, потому что достать бутылку из глубин шкафа или холодильника – это одна из мистерий ойкумены, к которой ребенок косвенно причастен прямо с самого начала. Вино, водка, спирт – смягчение всех трудностей, и – риск, риск, риск. Лида, как опытная жена, ежедневно стремится к тому, чтобы в этом сражении с опасным отдыхом не проиграть.
Можно вспомнить давнего немца Гриммельсгаузена. Его Симплиций Симлициссимус – не только юный и простодушный герой, но и метод освоения реальности: тяжёлой, безнадежной, барочной. Юра Полуяков тоже тянет на метод. В его постоянных вопросах – раскрытие сложности и незавершенности системы, которая только в пропагандистских речах представляется монолитным сооружением. Почему учительница истории пренебрежительно говорит о дворниках, разве они не представители авангарда – пролетариата? Если коммунисты не верят, да и не имеют права быть религиозными, можно им говорить «слава богу» и чёрта поминать? Ясно, что никакой мистики нет, тогда почему мама, объясняя свою забывчивость, вспоминает без всякого смеха проклявшую ее в детстве цыганку? У нас со всем справляется медицина, а как объяснить, что бабушка, когда-то умиравшую от заражения крови, спасла необразованная знахарка? Раз вы говорите, что скончавшаяся теперь в лучшем из миров, значит, она после смерти попала прямо в коммунизм? Ясно, что ответы взрослых на эти вопросы должны показать почти художественную сложность и даже размытость границ советской ойкумены.
Мальчик Гриммельсгаузена – в гротескной тьме бесконечной войны XVII века, мальчик Полякова – в спокойном свете мира, берегущем Союз между революцией, великой войной и еще далеким распадом. Юра – Симплиций в объятиях беспафосного и свободного от чрезмерного гротеска оптимизма! Полякова интересует не барокко, ему ближе Ренессанс! Но об этом лаконично скажем ниже.
Мышление советского человека, свободного от диссидентства, - вот что интересует автора. Никакой идеализации! Наглые кавказцы готовы платить шальные тысячи, сразу перекупая новые машины у счастливых обладателей. Прямо перед тобой возникает спекулянт с дефицитными детскими книжками. Отнюдь не все в советской вселенной вырастают настоящими октябрятами и пионерами: вот орёт в зоомагазине дитя, требующее то рыбок, то попугая. А в парикмахерской другой ребенок так управляет растерянным отцом, что всем вокруг плохо. Потребление и его последствия – уже на марше!
Болезни и смерть словно специально отдаляют коммунизм. Безумная Алексеевна, одержимая манией преследования, боится выходить на улицу и говорит только о своей обреченности. Контуженный на фронте Гриша с трудом справляется с произнесением самых простых слов – и всё курит, курит, курит. Под машиной погиб трагически зазевавшийся школьник. Бабушка Елизавета Михайловна приготовила огромную кастрюлю грибного супа – и сразу умерла, обеспечив сытные поминки. У тети Кати из-за рака всё хуже и слабее, а сын Сева безумно, без пауз вызывает скорую, требуя спасти маму. Повсюду, на каждом шагу школа чувств – и ранние драмы, и трагедии неутомимо работают над внутренней формой души главного героя.
В этой ойкумене есть неожиданно обнаруженное сочетание низа и верха, начинается встреча с эросом. Опять без всякой поэзии, всё из жизни. Что-то напрягается под животом («Наверно, это такая опасная болезнь, о которой даже в журнале «Здоровье» не пишут!»), особенно когда встречается женщина, да ещё не совсем одетая. И для чего-то маленькие негодяи делают дырки в женском туалете! Посещение общественной бани убеждает, что «глупости» у мужчин бывают разных размеров, и это сказывается на характере и поведении.
Верх и Небо – это одноклассница Шура Казакова. Прекрасная Дама? Не без этого. Но, в принципе, всё проще: первая, не слишком злая любовь и добрый образ, который возникает в мечтах о собственный высокой судьбе. «Ты, оказывается, сильный!», – скажет когда-нибудь Шура, узнав, что Юра стал боксером и способен защитить подругу. Хотя ты и не стал боксером, да и фехтовальщиком не стал, потому что талантов в этих сферах все-таки маловато.
Общага, завод, детский сад, лагерь, столовая – всё рядом. Тараканы – живность плохая. А попугаи – хорошая, но дорогая. Поэтому ограничимся рыбками. Хотелось бы собаку, чтобы любить совсем меньшего. Но у советского человека псы живут на улице, ибо человек – это человек, а к собакам чувства должны быть иными. Потому что – и это от нас отличие – собаки в той Москве еще не люди.
А как в ойкумене с иными пространствами, кроме Москвы? Жаль, нет провинции – с ней было бы гуще. В не слишком напряжённых речах присутствуют вражеские капиталистические страны. Разумеется, что и определенное томление при их упоминании сохраняется. Идейно ближе жаркая Куба. Там должен был оказаться Тимофеич со своей квалификацией электрика, если бы не напился перед решающей медицинской комиссией – и, как человек с высоким давлением, был забракован. Лида оказаась в командировке в Риге, это уже похоже на заграницу. Конечно, Новый Афон – там отдыхаем, там советское море. Туда и собирается Юра всю первую часть «Совдетства». Хорошо бы взять маску, ласты, солнечные очки…
Для приобретений нужен огромный «Детский мир», день посещения с мамой этого магазина – кульминация повествования, праздник торгового раблезианства, ранее обещанный нами Ренессанс! Метания Лиды от экономии к транжирству сына ради, диалоги в отделе верхней одежды, выбор избыточно яркой куртки и штанов, этикетные приставания к маме управляющего школьной формой продавца, движение Юры по направлению к шикарному пломбиру, покупка корма для рыбок в зоомагазине, непредвиденные траты в магазине марок – всё это прекрасно! И потому, что сам проходил нечто подобное, пусть не в 1968-м, а в 1979-м.
Вселенной «Детского мира» кульминационный день не ограничивается. Ренессанс ведь весьма связан с преступлением как событием культуры, вот и у Полякова так. «Преступные» траты Юры, словно поощряемого ненавистной яркой одеждой, попытка криминально заработать возле кассы в троллейбусе, тут же вспоминаются былые падения мальчика: рапирой в глаз – товарищу Ренату; многократное использование фальшивых жетонов для телефонных звонков. А есть и другие кошмары из чужого прошлого: «надругательство» над тетей Клавой, после которого она стала злой; расстрел безумных студентов, решивших зарабатывать на страхе прохожих перед игрушечным, но очень правдоподобно сделанным пистолетом.
Словно из всего этого к испуганному Юре в мрачном дворе подступают гопники с ножом: гони куртку, очки, да и все остальное! Но Поляков оптимистичен! Во-первых, в самые трудные минуты (так и здесь) появляется участковый Антонов, страж советской законности. Во-вторых, гопники тоже советские – они с негодованием увидели в Полуякове американского «человекообразного попугая». А потом отстали, узнав, что - нормальный парень из правильной семьи, а не стиляга – как следовало из одежды, выбранной мамой.
Нет в книге Полякова концептуализма и любой идейной истерики. Здесь советское и по-своему ренессансное «всё». Одновременно сознание пацана и очень взрослого мужчины, которые прошли путь из маргаринового общежития в литературу, не заболев элитарным недугом – литературоцентризмом.
Какие здесь разные герои! Перед нами простецы спасающей горизонтали, незаметно поддерживающие и питающие сложное бытие огромной страны. Счастье повседневности! Юрий может сделать вертикаль, работать ради нее – ибо суждено стать писателем. Важно, что в авторе и рассказчике нет невротичного, раненого Я. Есть протагонист, шагающий в юность.
Ещё в книге приходит к читателю скромная советская любовь. Она не «движет солнце и светила». Она радует всеобщей связью и мирной жизнью. Простите,что написал о том, что вы давно уже прочитали. Но это действительно Большой стиль – воскрешать страну, которая достигла столь многого.
*лицв, признанные иностранными агентами