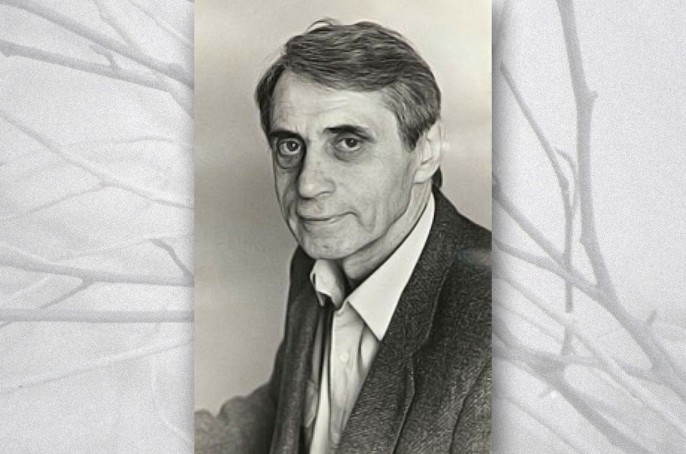Однажды, не так давно, довелось обсуждать с замечательным отечественным поэтом, полностью прекратившим публиковаться в нашей стране после "чёрного октября" 1993 года, то есть вот уже более тридцати лет как "выпавшим" из видимого литературного процесса, насколько справедливыми остаются в условиях нынешней "компьютерной" эры прежние максимы типа "Что написано пером не вырубишь топором" (русская пословица) или "Рукописи не горят" (М.А. Булгаков). И если ранее разве что фантастам приходилось изощряться, придумывая разные, одна мудрёнее другой, антиутопические причины, по которым человечество в их произведениях оказывалось лишённым доступа к письменной информации, то сейчас, поскольку всё большая часть материальных носителей текста стремительно перемещается в сферу виртуальности, да ещё опосредованную фильтрами пресловутого "искусственного интеллекта", получается, всё это — уже не "игры ума", а самая что ни на есть реальность: сфера свободного доступа к информации в мировой Сети активно зачищается от ненужного (ненужного кому, по каким причинам и с какой целью? — Авт.) контента.
Вроде бы сама собой в ходе обсуждения прозвучала парадоксальная, на первый слух, мысль о том, что средневековые схоласты-"реалисты", возможно, были по сути правы, и широкое тиражирование-распространение мыслей и образов, в том числе поэтических, по большому счёту ничего не решает ни в их значении, ни, соответственно, в их дальнейшей судьбе: будучи хотя бы единожды высказанными — даже "в воздух" или "про себя" — они всё равно "записываются" в так называемом информационном поле космоса и влияют на реальность в не меньшей степени, чем сообщения, внедряемые во множестве копий.
Николай Константинович Старшинóв, чей вековой юбилей мы отмечаем в эти дни, в такой системе координат оказывается не просто стихийным последователем противоположного направления — поэтов-"номиналистов", но, пожалуй, одним из самых последовательных, эталонных их представителей в отечественной литературной традиции, и, на мой взгляд, именно это обстоятельство до сих пор вызывает полярно противоположные оценки его творчества. Для "реалистов" от поэзии он — "малоталантливый стихотворец", который привёл в позднесоветскую литературу массу людей, у которых "отсутствует понимание того, что такое настоящая поэзия" и из которых "можно сколотить средней величины колхоз с собственной МТС" (даром что у колхозов никогда не было собственных МТС, но общекультурный посыл здесь понятен: устроили, понимаешь, такие как этот Старши́нов, "абсолютно соответствующий своей фамилии и своим стихам", из Ипокрены, этого Кастальского ручья, поилку-помывочную для личного состава и прочей живности, надрессированной рифмовать "кровь — любовь"). А для "номиналистов" он — человек, который не только издал 43 свои книги (из них — добрых три десятка поэтических сборников), но которому "почти все послевоенные (видимо, по умолчанию здесь имеются в виду русские. — Авт.) поэты в той или иной степени обязаны своим становлением", "наставник целого поколения поэтической молодёжи".
Конечно, этот небольшой экскурс в историю философских терминов может показаться излишним и даже запутать читателя, поскольку стихийный "философ-номиналист" Николай Старшинов в эстетическом смысле был, несомненно, реалистом, причём не просто реалистом, а реалистом социалистическим, выражающим в образной системе своих произведений мир не столько таким, какой он есть, а таким, каким он должен (или, напротив, не должен) быть в свете грядущего идеального (коммунистического) общества. И в этом прекрасном обществе, в этом правильном мире, конечно же, должна присутствовать и Поэзия (именно так — с большой буквы); то есть не только те, кто пишет стихи, но и те, кто их читает.
Послевоенный Советский Союз по праву считался "самой читающей" страной мира. Не самой думающей, не самой работающей и производящей, но самой читающей — точно. И, работая с пишущими стихи людьми, предоставляя им место на страницах журнала "Юность" (в первой почти сотне номеров, вышедших при редакторстве Валентина Катаева, а затем и Бориса Полевого, Старшинов заведовал отделом поэзии), альманаха "Поэзия" (который он возглавлял с 1972-го по 1991 год, подготовив 59 выпусков), ряда сборников и антологий ("Молодые голоса", "Земли моей лицо живое", 12-томный "Венок славы" из произведений, посвящённых Великой Отечественной войне, и т. д.), Николай Константинович вносил свою немалую лепту в создание, условно говоря, необходимой плотности поэтической атмосферы своей эпохи, где могли быть "на полную мощность" слышны стихи не только Андрея Вознесенского, Евгения Евтушенко, Булата Окуджавы, Роберта Рождественского и всей плеяды "оттепельно-эстрадных" авторов, не только Юрия Кузнецова, Владимира Соколова, Николая Рубцова и других "тихих лириков", но и огромного множества иных авторов (в частности, единственная прижизненная публикация стихотворений Владимира Высоцкого состоялась в 1976 году в альманахе "Поэзия"). А там уж количеству, по мнению Николая Старшинова, неизбежно суждено перерасти в качество. Поэтому каждая публикация любого поэта считалась им априори ценной и полезной.
Дополнительные штрихи к портрету поэта: как он, раненый осколками немецкой мины на линии фронта, с перебитыми ногами, так же, как Александр Маресьев, почти сутки полз к своим; как ему целых 11 лет пришлось учиться в Литературном институте, с постоянными перерывами по семейным и личным обстоятельствам, в том числе на лечение открывшегося туберкулёза и последствий ранения; как любил под гармонь петь частушки в ресторане ЦДЛ (частушек, в том числе "заветных", то есть нецензурных, в личном собрании Старшинова насчитывалось около 40 тысяч, это огромный корпус — больше 200 авторских листов, в три опубликованных им в 90-е годы сборника вошла лишь часть из них); какие "перлы" поэтической самодеятельности "снизу", проходившие через его руки, наподобие этого четверостишия:
Наша Родина прекрасна
И цветёт как маков цвет!
Окромя явлений счастья —
Никаких явлений нет! —
стали всеобщим достоянием; как однажды и навсегда "завязывал" с пристрастием к алкоголю; как увлекался рыбалкой (после его кончины даже традиционно проводится всероссийский турнир по подлёдной ловле рыбы на блесну "Кубок Старшинова") — всё это и многое другое только придаёт дополнительный объём образу юбиляра.
О том, как шла его редакторская работа — практически без остановок и перерывов — сохранилось множество свидетельств. Приведу здесь всего два из них. Одно — от стороннего наблюдателя: "Весь кабинет завален рукописями. Они лежали на подоконнике, на книжном шкафу, громоздились высочайшими стопками на полу, заняли все стулья и кресло, не говоря уже о письменном столе. Казалось, что ещё чуть-чуть, и вся эта масса бумаги рухнет, обвалится на хозяина кабинета, и он в буквальном смысле будет погребён под рукописями начинающих поэтов (и однажды такое случилось, но обошлось без летального исхода.)
Я хотел примоститься на краешке стула и собрался слегка передвинуть стопку бумаг.
— Подождите! — остановил меня окрик поэта. — Я — сам!
И, как бы извиняясь за "превышение децибела вежливости", добавил:
— Потом ничего не найдёшь. Только я знаю, где что и чьё лежит".
И другое — от самого Старшинова, относительно времён его работы в "Юности": "Я завален рукописями по горло!.. Они снятся мне ночами!.. Уже больше года я сам не написал ни строчки!.. И моя жена твердит мне ежедневно, что я бездарь, бездарь, бездарь!.." Мнение жены в данном случае не равно нулю и более чем важно — ведь речь идёт не о какой-то домохозяйке или светской диве, а о прекрасной поэтессе Юлии Друниной, на которой Старшинов был женат с 1945-го по 1960 год и которую продолжал любить до конца жизни.
Нередко утверждается, что гигантская редакторская работа Николая Константиновича шла в ущерб его собственному творчеству. Но осмелюсь предположить, что подобные утверждения справедливы лишь частично. И не только потому, что он якобы и в жизни принял на себя амплуа "ротного запевалы", описанное им в своих стихах:
Пою… А голос слаб мой, вот беда!..
Но тишина за мною раскололась
От хриплых баритонов и басов.
О, как могуч и как красив мой голос,
Помноженный на сотню голосов!
И не только потому, что воспринимал собственное творчество как часть творчества страны и народа в целом , как часть общей судьбы:
Нам жить в одной семье,
Нам петь в одном кругу,
Идти в одном строю,
Лететь в одном полёте…
Я думал, что не устою,
Что не перенесу,
Что затеряюсь я в строю,
Как дерево в лесу.
Мети, метель, мороз, морозь,
Дуй, ветер, как назло.
Солдатам холодно поврозь,
А сообща — тепло.
И я иду, и я пою,
И пулемёт несу,
И чувствую себя в строю,
Как дерево в лесу.
И, тем более, не потому, что, в шутку или всерьёз, сравнивал свои редакторские функции с функциями подпаска колхозного стада:
Я в сорок лет ещё в подпасках, —
Когда-то буду в пастухах?
Нет, строки коллег по поэтическому цеху (или "колхозу", если угодно) становились вешками на его собственном творческом пути (опять же, по всеобщему признанию, Старшинов обладал феноменальной, "магнитофонной" памятью на стихи, в том числе на чужие). И эта особенность, видимо, работала — не могла не работать! — как мощнейший встроенный фильтр она "чистила" его поэзию от повторений и штампов. Эффект получался неожиданный и чаще всего скрытый.
Когда, нарушив забытьё,
Орудия заголосили,
Никто не крикнул: "За Россию!", —
А шли и гибли за неё.
Вас ничего не удивляет в этих давно признанных хрестоматийными строках, датированных ещё 1944 годом? Лично меня — удивляет, и вот что. Ну не было в Красной Армии времён Великой Отечественной войны официального призыва "За Россию!". "За Родину! За Сталина!", как утверждается, было. "За нашу Советскую Родину!" — тоже было. А "За Россию!" — не было. Но вот оно — живое свидетельство эпохи: в сознании бойцов Красной Армии и граждан СССР между понятиями "Советский Союз" и "Россия" тогда действительно стоял знак равенства, просто "придумать" такое автору ради рифмы и размера — невозможно, не говоря уже о том, чтобы пройти цензуру, быть понятым и принятым читателями.
Точно так же строку из стихотворения "Зловещим заревом объятый…": "Здесь ничего не покупают и ничего не продают…" (нередко цитируемую как "Здесь ничего не покупают и никого не продают…"), можно считать, по сути, "визитной карточкой" не только поэта Николая Старшинова, но и некоего идеального состояния русского государства и общества в целом. А это, согласитесь, уже очень и очень немало.