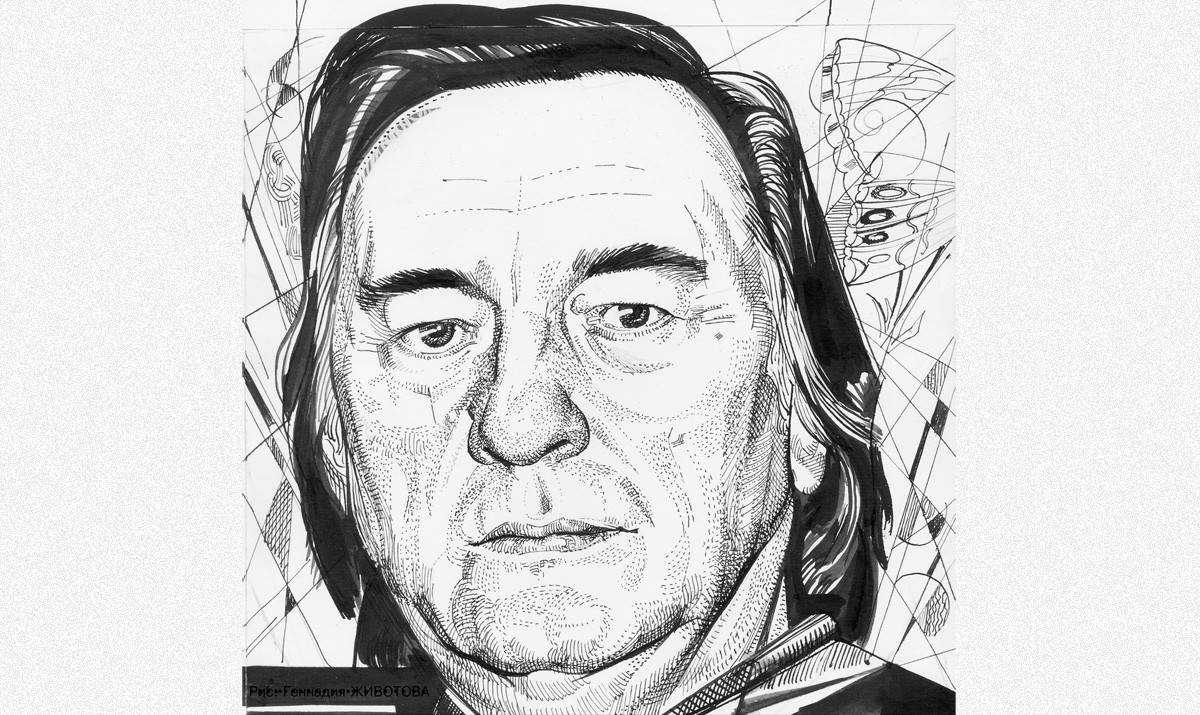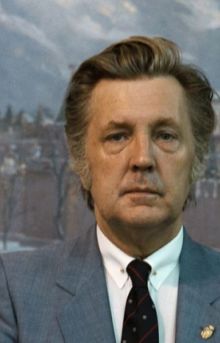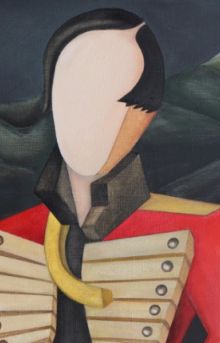1
Андрей Платонов, туго угнув лобастую голову, повествует старому русскому философу Фёдорову о нарождение нового слоя мира, о паровозах, как литых, могущественных зверях, подчинённых человеку, о постепенном врастание в грамотность больших слоёв людей – сие последнее книжник и мудрец, понимающий, что все должны быть не просто грамотны, а интеллектуально развиты, одобряет, но относительно техники, столь прославляемой Платоновым, у него сильные сомнения.
Ибо русский космизм подразумевает душу, её развитие, её укрепление в свете, а техника бездуховна по определению.
Относится ли Платонов к могучей ветви русского космизма?
Покрой его фразы – со сплошными алогичными решениями внутри неё – убеждает в этом; словно тугие, как жилы корней, мысли протянуты в этих строках; и есть поразительный момент в начале «Чевенгура», когда умирающий мастер словно чувствует своё новое, грядущее рождение.
Фёдоров писал о невероятном: писал мощно, завораживая, и, ратоборствуя смерть, казалось, никогда не подчиниться ей.
…как знать, если одновременно сгустки воль всего многомиллиардного человечества сольются, может…загорится второе солнце?
Или – воскреснут отцы, подтверждая правильность Всеобщего дела?
Не проверить…
Циолковский, поэт космоса, обладавший открытым духовным оком, видел слово РАЙ, начертанным в облаках, получал другие знаки, и прорывы его сознания шли двумя путями: чисто техническим, изобретением ракеты, и прочего, и литературным, где, работая в недрах жанра фантастики, он созидал сквозные образы возможного грядущего.
Ноосфера Вернадского: мыслящий и напитанный мыслью слой – есть могущественное ответвление философии космизма – столь же сложной, сколь и ожидающей будущего.
Совершенно особняком стоящий Даниил Андреев, утверждавший развитие внутренних энергий, как первооснову, сулящую переворот в человечестве – это: помимо поэтически изображённых запредельных панорам: хочешь верь, хочешь нет – но в ощущениях вряд ли получишь.
…они встретились там: и Заболоцкий, проницавший тайны почвы ради таинства духа, и Николай Тряпкин, отчасти продолжающий линии Заболоцкого, и старый русский философ Фёдоров, благосклонно слушающий лобастого Андрея Платонова…
2
Тень Циолковского странным образом мерцает за произведениями Платонова: невероятно?
Но, описывая тех, кто сегодня нищь и голытьба, живописуя тяжесть бытования на земле подлинного, не приукрашенного пролетариата, он подразумевает будущие дали, и – пусть едва намеченное -стремление этих людей: из самой гущи народной плазмы, из низин, напоминающих болотистую местность, - в грядущее, которое, минуя этапы обучения, приведёт к невероятным прорывам.
И привело, кстати: ни сам Циолковский, ни Королёв, ни Гагарин не были выходцами из аристократических кругов…
Русский космизм был ориентирован на всеобщность людскую: каждый как листок: вроде бы одинок, но – присмотрись – связан с ветвью, со стволом, с корнями; и именно эта всеобщность и созидает невероятный круг единства человечества: так слабо ощущаемого людьми…
Вступает в дело невероятная фраза Платонова: данная концентрацией, сгущением, несущая в себе крепкую кислоту таинственных смыслов, предлагающая алогичные корневые решения.
Фраза кажется вывернутой – но космические программы и проникновение в космос человека в двадцатые-тридцатые тоже представлялись невероятными; и Платонов, сгущая фразу так, как он это делал, через неё хотел именно озарить грядущее…
Стихи его носили, как правило, оптимистический характер; но большим поэтом Платонов не стал, он точно репетировал поэзией будущее своей прозы.
…и есть невероятные ощущения, переданные через смерть в результате несчастного случая рабочего в начале «Чевенгура»: тут словно стираются грани между мирами, и мир потусторонний предстаёт полупрозрачным.
Вернее: полупрозрачны оба мира: живых и мёртвых: последние же проявляются во снах живущих…
Космизм Платонова и земного, круто-напряжённого толка, и мерцающий тонкими предчувствиями, так что тень Циолковского, бывшего и писателем, вполне логична.
3
Ранний Заболоцкий, диагностировавший слом общества через сломанный же, с новой выразительностью данный язык, далёк, очевидно от философии космизма, подразумевающей пронизанность мира духовными лучами.
Но уже крестьяне, обсуждающие в «Торжестве земледелия» «…где душа? Или только порошок?» связаны с этим феноменом отчётливо, крепко, простыми нитями, и простыми душами…
Потом плоды земледелия не очень земные: земные, конечно, налитые соком и цветом почвы, но и – словно прорастающие к небесным сферам, далям, пределам…
Своеобразный космизм Заболоцкого раскрывается в поздний период его творчества, когда, вглядываясь в «Лицо коня» можно установить, что чувствовал поэт, переживший столько чудовищного, как влит он был душою в таинственные небесные дуги, заставляющего отдельные русские души двигаться и двигаться выше.
Призыв к деревьям – читать стихи Гесиода – из той же сферы: ибо космизм русский подразумевает основой единое ядро вселенной, и – тем более – единое человечество.
И у позднего Заболоцкого это выражено, как нельзя лучше…
4
Обширен космос Есенина, пространен и многообразен, и, в силу неопределённости границ русского космизма, базирующегося скорее на ощущениях, нежели на чётких определениях, Есенин – особенно периода ранних, мистицизмом проникнутых поэм, вполне относится к этому направлению мысли.
…вернее – направлениям, что ветвятся и пересекаются, многообразны, но всегда связаны с ощущением высота, как альфы бытия.
…музыка над нами.
Тучи — как озера,
Месяц — рыжий гусь.
Пляшет перед взором
Буйственная Русь.
Дрогнул лес зеленый,
Закипел родник.
Здравствуй, обновленный
Отчарь мой, мужик!
Словно – диктовка из высших речевых областей: образы, сравнения, удивлявшие должно быть самого поэта: что это, как не эстетизированная, великолепным стихом исполненная форма космизма?
Или:
Я иное узрел пришествие —
Где не пляшет над правдой смерть.
Как овцу от поганой шерсти, я
Остригу голубую твердь.
Подыму свои руки к месяцу,
Раскушу его, как орех.
Не хочу я небес без лестницы,
Не хочу, чтобы падал снег.
Небеса не мыслимы без лестницы: и широта ассоциаций здесь будет пестра: и «Лествица» Иоанна, и космические прозрения Циолковского, видяшего человечество иным, а небеса – метафизическими, вспомнятся.
Но – космизм: это и прорастание в сущность вещей, познание корней явлений природы, а Есенин, компактно, нежно и жёстко одновременно, писал:
Так кони не стряхнут хвостами
В хребты их пьющую луну…
О, если б прорасти глазами,
Как эти листья, в глубину.
Он и прорастал – широко раскрытыми духовными очами в бездны космизма, где геометрия жизни, её альфа, поэзия и алгебра выглядят иначе, нежели видно из земной ямы.
5
Русский космизм – особая смесь философии, отношения к жизни, литературы, специфики русскости, жаждущей запредельных явлений: что ярче всего выразилось в философии Фёдорова; думается, не будет натяжкой отнести Николая Тряпкина к поэтам русского космизма…
Два корня вспоминаются, когда речь заходит о Тряпкине: один очевиден: Клюев, другой – не столь – Заболоцкий: но именно от Заболоцкого, мнится, шёл поэт, рисуя свои пространственные панорамы, черпая опыт из земного, крестьянского.
Именно звучание космизма разливается в одном из корневых, основных стихотворений Тряпкина, справедливо пропущенным через большинство антологий:
Где-то есть космодромы,
Где-то есть космодромы.
И над миром проходят всесветные громы.
И, внезапно издав ураганные гаммы,
Улетают с земли эти странные храмы,
Эти грозные стрелы из дыма и звука,
Что спускаются кем-то с какого-то лука,
И вонзаются прямо в колпак мирозданья,
И рождаются в сердце иные сказанья:
А всё это Земля, мол, великая Гея
Посылает на небо огонь Прометея,
Ибо жизнь там темней забайкальского леса:
Даже в грамоте школьной никто ни бельмеса.
Космос – почва духа, хоть и не укорениться в нём, будучи во плоти связанным с царством Геи, но огненный Прометей требует необыкновенного шара взлёта; и вот – они уже есть: космодромы, за ними мерцает дерзновение духа в не меньшей мере, нежели стремительность острой, как биссектриса, мысли; и комбинация стихотворения, туго завязывающего земное, небесное, мифологическое, даже – отчасти – фантастическое – есть выражение русского космизма в формулах точных, отшлифованных строк.
Впрочем, чаще кажется, Тряпкин не столько шлифовал свои стихи, сколько выдыхал их – целостно и легко.
Контраст между печным, деревенским и нарисованным в первой, сложно-удлинённой строфе велик, поэтому:
А в печах в это время у нас в деревнюшке
Завывают, как ведьмы, чугунные вьюшки,
И в ночи, преисполненной странного света,
Загорается печь, как живое магнето.
И гашу я невольно огонь папироски,
И какие-то в сердце ловлю отголоски,
И скорее иду за прогон, к раздорожью,
Где какие-то спектры играют над рожью,
А вокруг силовые грохочут органы…
Тут уже и фантасмагорический элемент, присущий направлению этой мысли: печь, загоревшаяся живым магнето…
И силовые органы, не играющие, но грохочущие, несколько снижают впечатление от человеческих возможностей.
…есть и такой момент в недрах космизма: все едины со всеми, существует глобальный круг всеединства, что человек чувствует очень слабо, но – подчинён ему, и поэт – этот своеобразный сейсмограф бытия – ощущает вибрации более тонкие, нежели люди, лишённые поэтического дара.
Поэтому, когда Тряпкин пишет:
Кричала гагара,
Что солнце проснулось,
Что море поет.
Что солнце проснулось,
Что месяц гуляет,
Как юный олень.
Что месяц гуляет,
Что море сияет,
Что милая ждет.
То в единое сведено: гагара, сияющее море, движение месяца, ожидания милой; в единство, которое и говорит о причастности поэта к силам и свету такого феноменального явления, как русский космизм.
6
Русский космизм подразумевает смешение двух невероятных плоскостей: механической, позволяющей преодолевать косность бытования на земле, и гуманитарной, раскрывающейся с неожиданной силой: в том числе и словесно-стилистической…
В языке Леонида Леонова, в покрое и костяке его фразы уже было нечто невероятное: от взлёта идущее, подразумевающее…парение…
Нет, всё плотно, веско, объёмно: как в первой части «Барсуков», как в «Воре»: можно войти в повествование: двери страниц позволяют; но за этой плотностью: то летучая мудрость Фирсова Фёдора Фёдорыча, и строящего «Вора», то народное, с лукавым прищуром объяснение жизни, даваемое мастером Пчховым…
Чем не формулы космизма?
О! Он разнообразен: он горит фантастической правдой старого русского философа Фёдорова, и воплощается в формулах и фантастике Циолковского, он взрывается веерами цвета в ранних мистических поэмах Есенина, и…неожиданно проступает, как водяные разводы, в иных мистериях Леонида Леонова.
Едва ли сейчас будет читаться «Дорога на океан»: впрочем, отдельные её главы, например, «Приключение», можно воспринимать, как прекрасно сделанные новеллы; но будущее, детально прописанное объединение планеты – на почве труда и братства (сейчас смешно даже думать о таком), - именно оттуда: из полыхающих световым пламенем недр русского космизма.
И оттуда же невероятные, эллипсоидами и полудугами небесных сфер играющие, фугами, но и сказами тянущиеся вверх колонны «Пирамиды»: переусложнённого, переуплотнённого романа, каким только и может быть комментарий к Откровению Иоанна Богослова.
7
Таинственная поэзия северных русских рек: серебром блестит излучина, и травы кажутся занесёнными из других миров, из духовного дома…
Михаил Нестеров изобразил множество русских типажей, сквозь которые просвечивал он: духовный, играя неповторимостью красок, и той необычной световой силой, что присуща русским правдоискателям…
Подвижникам.
Тона синий, зелёный, белый…
Красный очень редок: ибо резок, ибо ассоциируется с воспалением…
Вот белый кристалл веры – храм: север, Соловки; и спокойное движение реки, будто бы неподвижной, лучится не броской поэзией тех мест.
Много рек, много леса: они, наполненные подлинной природной поэзией, - персонажи полотен Нестерова в не меньшей степени, нежели люди…
Осень сентября, легко обрызганная разноцветьем зелень, и будущий Сергий входит в видение, и откровение его раскрывается космосом неба, той поэзией, какую невозможно перевести в людские слова…
Нечто мерцает в классическом движение линий, организующих пространство холста, в великолепной симфонии красок…
Христос падает под крестом, но здесь камни – напоминают шары и сгустки снега…
Русский Христос?
Как из «Андрея Рублёва»?
Вот задумавшийся Ильин: и снова тонкое серебро реки мерцает на заднем плане…
Поэзия русской души так тонко выражена суммами картин Нестерова, что, вглядываясь в них вновь и вновь, начинаешь чувствовать иначе.
8
Известно – писал каждый год рождественское стихотворение: их много собралось: от тех, что создавались в советский период, когда празднование Рождества было под запретом, до западных, данных уже под несколько иным углом мировосприятия.
Ни разу Бродский не писал о Пасхе…
Воспринимал ли чудом воскресение, или не думал об этом? Рождество естественно, а Пасха…
Всё равно никому не проникнуть в тайну тайн праздника, давно сведённого к обрядоверию, куличам и сладкой массе.
Ощущение Божественного у Бродского шло через язык, которому он своеобразно поклонялся, представляя его самостоятельной надмирной субстанцией.
Фантазировал?
Ошибался?
Был прав?
Любое схождение линий возможно, и его растиражированное высказывание о поэте, как инструменте языка, не проверить на правильность – формулы тут невозможны.
В его поздней поэзии много механического, точно рассчитанного, словно противоречащего его же утверждению…
Космос его поэзии обширен, и некоторыми своими долями сочетается с областью русского космизма: бескрайней, как этот самый, абсолютно счастливый – по утверждению Циолковского – космос.
Но – мистицизм высокого свойства – непременный элемент русского космизма, и Бродский со своим утверждением о языке, вполне подходит под категорию русского, необыкновенного этого явления…
И не только из-за утверждения, но и по мыслительному покрою многих стихов, по прямому обращению к небожителю, например, в витом, переусложнённом стихотворение:
Здесь, на земле,
где я впадал то в истовость, то в ересь,
где жил, в чужих воспоминаньях греясь,
как мышь в золе,
где хуже мыши
глодал петит родного словаря,
тебе чужого, где, благодаря
тебе, я на себя взираю свыше,
уже ни в ком
не видя места, коего глаголом
коснуться мог бы, не владея горлом,
давясь кивком
звонкоголосой падали, слюной
кропя уста взамен кастальской влаги,
кренясь Пизанской башнею к бумаге
во тьме ночной…
И так далее – строка, кажется, будет развиваться бесконечно…
…русский космизм не настолько определён в своих границах, чтобы можно было обозначить всех его персонажей-участников: к ним можно отнести и Михаила Нестерова, творившего картины, точно просвеченные небесными сгустками: живописца, ничем Бродскому не близкого; и Сергея Есенина с напряжением его ранних мистических поэм, и Клюева, чья избяная метафизика упирается в запредельность…
Думается, можно отнести и Бродского: с необыкновенной интеллектуальной энергией стиха, часто забирающегося в дебри, существование которых не проверить эмпирически.