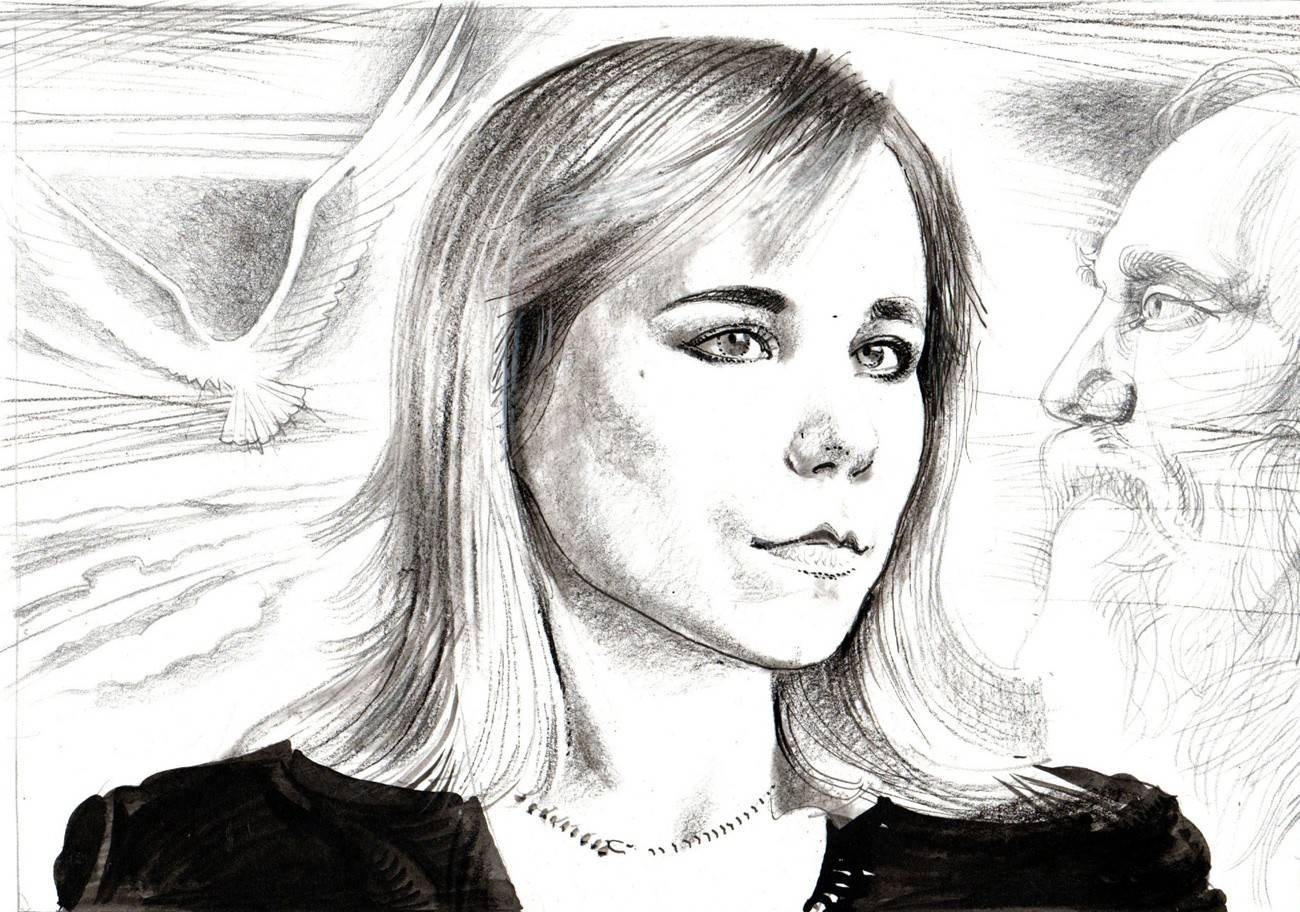Стоит ли вообще сопоставлять и особенно противопоставлять гениев, чья жизнь завершилась в позапрошлом столетии? Один ушел в двадцать шесть, второй без труда добрался до восьмидесяти двух. С каждой по-настоящему встреченной женщиной Лермонтов переживал любовный апокалипсис; не уступающий в увлечениях Гёте без труда превращал возлюбленных в надежных друзей. Да и дружить умел: то Гердер, то Шиллер, то восторженный Эккерман – всё очень крепко, без провокаций и лишних интриг. Наш поэт сумел из многолетнего товарища Мартынова сделать такого оппонента, что никакая конспирология не поможет понять трансформации близкого человека во врага. Лермонтов плывет по опаснейшим водам иронии и сарказма, Гёте такие дикие водоемы старательно обходит стороной. Он очень внимательно следит за собственной эволюцией, двигаясь от «Вертера» к «Фаусту» (через «Ифигению в Тавриде» и «Вильгельма Мейстера») как по заранее определенному маршруту. Михаил Юрьевич долбит в одну точку явления и разворачивания тяжелого, герметичного характера. Вместо эволюции один раз переживает великую революцию: когда погиб Пушкин. Да и к Гёте Лермонтов, с детства знавший немецкий язык, относился не хуже, чем к Байрону. А к Байрону он относился с высоким чувством.
И все же я воссоздам тот конфликт, который сталкивает двух творцов. Что-то подсказывает мне: в фатально расширяющейся войне России и Запада, при встрече с безмерной гордыней цивилизации Фауста Лермонтов может помочь в оценке того, что уже произошло, и в подготовке к тому, что произойдет. Самые мощные и перспективные для грядущего ужаса конфликты могут скрываться за весьма гармоничным фасадом. Демон русский, с которым собеседование и война Лермонтова, и демон западный, за которого отвечает Гёте, больше – чем литературные образы и поэтические сюжеты.
… Для правильно и размеренно живущего Гёте сатана оставался внешней, формализованной силой, поэтому великий немец далек от религиозного сознания и кипящих в нем вопросов. У истерзанного грехами Лермонтова все иначе: демон здесь внутренний герой, плен головы и сердца – следовательно, Бог в лермонтовском мире есть полноценное присутствие; не система театрализованных сюжетов, как в «Фаусте», а Личность в тяжелейших движениях героев и автора. У Гёте - каркас «Книги Иова», использование композиции и логики библейского повествования. Сам Гёте никак не напоминает ветхозаветного страдальца. В социальном благополучии, в здоровье и беспроблемном долголетии, в умении строить, распределять и планировать статусный немец словно специально отлетает от Иова, вмонтированного в структуру «Фауста». Между Иовом и Гёте нет живой связи.
Она есть у Лермонтова – мученика, выходящего на разговор с Отцом в поэмах и стихах, представляющих «Книгу Иова» как русскую историю. Лермонтов – потрясающий Иов! Впрочем, отрицающий последние главы священной книги, в которых ставится оптимистическая точка. Эта точка – и об этом будет подробно сказано ниже – для Гёте, но не для Лермонтова.
Лермонтову 210 исполнилось совсем недавно, Гёте 275 в уходящем году. Не самые мощные юбилеи. Однако такой повод упускать нельзя – особенно, вспоминая, что теперь горячая фаза войны с цивилизацией Фауста, и в расширяющемся пространстве «отмены» русской культуры мы обязаны быть ее апологетами. Лермонтов в этом деле совершенно необходим.
Михаил Юрьевич – воин, Иоганн Вольфганг – чиновник. Разумеется, это не исчерпывающие характеристики, но – важные. Веймарский министр Гёте много десятилетий прекрасно справлялся с хлопотными государственными обязанностями. Наш поэт далек от размеренной придворной жизни, жил и умер с оружием в руках. Конечно, и отношение к смерти о многом сигналит. Биографы Гёте отмечают его стремление удаляться от смерти друзей и близких, от разговоров о собственном конце. Как будто автор «Фауста» планирует жить вечно, а если и уйти – как в тогда еще отсутствующей эвтаназии, безболезненно, без трагедий, сразу. И то, с какой механической скоростью поднимает он на бутафорские небеса Гретхен с Генрихом, показывает, что витальная оптимизация, уничтожающая всякий декаданс на корню, служит автору знаменем. Нам еще предстоит посмотреть, как он им размахивает.
Лермонтов не выходит из сюжета близкой гибели, пристегивая читателя намертво к своей поэзии вариацией классического катарсиса, когда кульминационные чувства насыщаются воздухом трагического итога. В скорби преодолевается груз житейского, и картины очередного лермонтовского жертвоприношения – например, «в полдневный жар в долине Дагестана» - поощряют не пессимизм и бездушное отчаяние, а управляют героической вертикалью. Она в согласии с эллинской трагедией – появляется, когда звучит античный напев: «лучший удел – не родиться вовсе, а если родился, скорее сойти в ворота аида, солнца не видеть лучей». Слишком часто Гёте называют олимпийцем. Если же задуматься о поэтике катарсиса, то больший олимпиец – наш поэт, а Гёте – прагматик, прекрасно знающий античность, но не живущий ею.
Прагматизм Гёте – путь к освоению «Фауста», боевого текста, трансформирующего слишком вольную трагедию в нечто иное, ставящее задачу превратить трагическое в пропагандистское, охватывающее хаос смерти (Лермонтов шел с ним!) рационализмом необыкновенно разновекторным – и новый Иов перед нами, и Господь благословляет идею прогресса, и все «кончилось очень хорошо». Гретхен с убиенной семьей, использованная Елена Троянская, Филемон с Бавкидой – все танцуют в неопасхальном хороводе. Почти – с Мефистофелем. А если доверять не словам, а конструкции, то – с Мефистофелем.
Эволюция важна для понимания Гёте. «Гец фон Берлихинген» и особенно «Страдания юного Вертера» - страсть, скандал, одиночество и внесоборность не собирающейся долго жить личности. Ошеломительный успех «Вертера» выпустил на волю демона лихого саморазрушения – литературно просто замечательного, житейски неблагополучного. Вертеровское переселение в побеждающее филистеров самоубийство вполне можно (попытаться!) оградить забором чисто эстетического события, однако Гёте растит в себе и государственного человека. Этот субъект хорошо понимает, как в сентименталистском угаре новый европеец отрекается от философии общего дела.
Гёте не любит свой шедевр, он не перечитывает его и исправляет вертеровскую поэтику при первой возможности – например, в драмах «Ифигения в Тавриде» и «Тассо». Демон страсти, сатана индивидуализма и мнимо героического самоотрицания побеждаются особым сюжетным раскладом, замещающим трагический катарсис прагматикой. Дочь Агамемнона и Клитемнестры должна погибнуть – нет шансов на спасение, но Гёте с удовольствием управляет позитивным чудом: умные действия Ореста, Пилада и самой Ифигении не только побеждают язычество таврических правителей, но и предварительно складываются в фигуру, которая в свой час обернется Фаустом. И этот коллективный Фауст не только отвечает на вопросы Иова, он здесь и особый деловой Христос, запрещающий смерть. Для подобного итога в «Тассо» личность итальянского гения взята в разработку – и богом животворящим оказывается не душа поэта, а государственная правда. Она призвана включить бешенство Торквато в поистине министерский план по защите общих начал единого европейского дома от произвола опять расшалившегося Вертера. Теперь он под контролем!
Роман «Годы учения Вильгельма Мейстера» - дидактический трактат о масонском спасении человека от театра страстей человеческих. Чтобы главный герой – талантливый бюргер на лестнице эстетики и философии – не погиб и продвинулся к счастью, запускаются механизмы другого театра. Шекспировский взрыв страсти не отменяется (и чудная Миньона прыгает в этих границах – очередная, но уж точно не рядовая Офелия, не добравшаяся до возраста силы и ответственности Корделии!), при этом стратегия сюжета и катарсиса прямо противоположная. Гёте нужен всеевропейский хэппи-энд, когда мягкой властью братья отведут трагедию, заменят жену возможную на жену необходимую, продлят жизнь. Нравственный прогресс для Гёте не метафора, а данность сюжетно-композиционной организации романа. Он балансирует между сильнейшим искусством и масонской пошлостью.
Главная трагедия «Фауста» - в ее отсутствии. Хорошо-хорошо, скажем легче… - в исключительной редукции трагедии, когда каркасная метафизика в «Книге Иова» обнимает читателя менторским комиксом о плановом спасении супергероя. Это я не о библейском оригинале. Это о том, чем становится священная история в главном тексте западной цивилизации. Это о «Фаусте».
Ветхозаветный Иов, не покидая места своего страдания, перемещает главную интригу в кризисную речь. Она призвана разоблачить фарисействующих друзей, поднять героя над сатанинской аттестацией человека как «червя», «праха» и «моли», вызвать на разговор Бога – Отца тяжелых, создающих смысл испытаний и интонаций.
Фауст-Иов, пережив свое совсем близкое самоубийство (порог Вертера пройден!), запрягает демона и скачет по мирам и временам, отказываясь от разговора со стремительно исчезающим Господом ради апологии движения: если Вагнер-Елифаз/Софар/Вилдад при жизни умирают в схоластике, в гордыне самовлюбленного чиновника от познания, то новый Иов выключает тормоза: договор с сатаной и омоложение, шабаш с ведьмами, структуры власти и придворных игр, женщины немецкие и древнегреческие - простые и божественные, глобальные проекты, убиенные в ходе решения инновационных задач архаичные старики. Когда-то Филемона и Бавкиду спас языческий Зевс, теперь стер с лица земли постхристианский Иов.
Сила «Книги Иова» в том, что главный герой не сливается с Богом, остается восходящей личностью, и в этом вертикальном движении подтекстово звучит мысль о будущем Христе. У Гёте главная новость Фауста в том, что он вбирает в себя динамику сатаны и символическое верховенство Бога, становясь не только очередным Иовом, но и западным Христом, словно соответствующим революционному переводу первого стиха «Евангелия от Иоанна»: «В начале было дело».
Дело! Как это закономерно и дидактично – вымести любое монашество, всю классическую церковность метлой либерализма, без комплексов и памяти о Писании создающего вавилонские башни – как то, что просто невозможно не создавать. Вот тут действительно намечается интереснейшая трагедия: Фауст обязан быт бесом активности, противопоставленным бесу вагнеровской консервации, и за эту парадоксальную доблесть Небо (которого, в общем-то, и нет) должно освятить широко шагающего Человека (и он, разумеется, есть - только он и есть). Основной чёрт мироздания у Гёте – Вагнер: вечный фарисей, ученик-пародия, изначально проштампованное, классифицированное и убитое мгновение.
Главным делом занимается не герой, а необыкновенно цельный автор. Как бы вбирая, поглощая оба Завета сюжетом своего театра (фарсового и мистериального одновременно), Гёте более полувека выпиливает иной, историей и западным гением увиденный крест. Тут все очень глобально! Даже Байрон, пугающий Гёте как опаснейший из Вертеров, усыновляется Фаустом в образе Эвфориона и включается в мощный сюжет постхристианского Лютера, который так переводит Иова и Евангелие, что Фауст-Спаситель бронзовеет на глазах.
Всё страшно просто: победив сатану людской мелочности и циничного самодовольства, оставив позади библейского Иова с его теоцентричной скорбью, просиял Христос здравого смысла и нравственных компромиссов. Доведенным до совершенства литературным штурмом взято не только художественное Небо. Я бы не сказал, что в подобном «христе» нет габаритного и весьма агрессивного чёрта. Порою мне кажется, что немецкий олимпиец, задушивший Вагнера как бездарного изобретателя гомункула, частично обрел и зафиксировал его в Фаусте. Фарисея низкопробного и тщедушного сменил фарисей по-настоящему габаритный. Впрочем, это больше относится к фаустианцам разных эпох – к отвратительным рожам глобализма, который они с обезьяньей настойчивостью транслируют как заученную скомканную истину. Самый страшный Вагнер – не Вагнер гётевского сюжета. Жуть подлинная, когда Вагнер выдает себя за Фауста, имея необходимые ресурсы для сведения земного бытия к нулю. Еще раз скажу, рискуя быть навязчивым: дело не только в вагнеровской инициативе. Хуже, что в самом Фаусте есть особый – самый хитрый из семейства вагнеров. Это он желает очередную Вавилонскую башню, это его воротит от звона колоколов.
Фауст так значителен, потому что для своего создателя, всю жизнь полемизировавшего с историческим христианством, он и есть необходимый Христос, планово распинаемый, распинаемый в вечно актуальном перформансе, в границах глобальной инициативы прогресса. Католичество стало протестантизмом, чтобы протестантизм стал фаустианством.
Для Лермонтова Христос – Пушкин, а Пушкин – это Мцыри, избавленный от чрезмерно суетливой судьбы. Да, это преувеличение, это не совсем так. Однако стихотворение «На смерть поэта» не только разделило путь и творчество на до и после, но и справилось с относительной недовоплощенностью и косноязычием ранних поисков взаимодействия и борьбы с демоном. Ранний лермонтовский демон будто хочет уместиться в ключевой фразе («Рожден он был под гибельной звездой») и прочно, монолитно сидит в авторском Я, отвечающем за «Сашку» и «Вадима», «Боярина Оршу», «Измаил-Бея», «Хаджи Абрека» и «Княгиню Лиговскую». И за «Маскарад», конечно. Гностический бес, причудливо соединяющий беспощадный эгоцентризм с отрицанием себя и блага, попадает в вихревое движение уже гениальных слов, но невротический центр - это ядро лермонтовского декаданса - держит крепко. Подобный негнущийся демон-штырь (замаскированный под глубину и очередную цветущую сложность) в свой час погубит классическую Россию, загнав её в предсмертную, предбольшевистскую мизантропию. Соловьев и Мережковский, Блок, Андреев и декаденты попроще примут в сдаче империи посильное участие. Ленинцы сметут чернокнижников, не заботясь об отделении всё-таки зерен от безнадежных плевел.
У Лермонтова была смерть Пушкина, родившая его заново. Демоническая тема некуда не делась; однако, стремительно взрослея по следам убиенного Александра Сергеевича, Лермонтов вдруг превратился из трудного школьника в не слишком понятного старца. Тут стыдно быть кем-то вроде Фауста, потому что очень своеобразный старец Гёте идет в своем главном эпосе (как бы трагедии) именно в сторону школы, где надо внести в журнал оценки и написать подробный отчет о правильном и наоборот поведении. Поздний – независимо от юных лет – Лермонтов проваливается в свободную от захватов интуицию. Поздний Гёте идеально подходит для назидательного цитирования и обязательного тестирования в духе какого-нибудь веймарского ЕГЭ. Финал «Фауста», как и финал «Мейстера» с «Ифигенией» - для подмастерьев.
Кончины ближних и дальних с последующим погребением и больной памятью заставляли Гёте исчезать и замирать, вообще не присутствовать. Лермонтов всегда поступал наоборот. А мученическая кончина гения, истолкованная как убийство с серьезным числом виновных, сразу поставила Лермонтова в эпицентр русской трагедии и резко подвинула рельефный и почти психиатрический демонизм – простором любви и страдания, Кавказом с его драмой взаимной колонизации горцев и русских, неповторимым сюжетом лермонтовского монастыря – возможно, главным ответом на «Фауста».
Дело ведь не в том, что Демон губит Тамару, а Печорин, как считал еще Николай Первый, совсем плохой, отвратительный человек. Лермонтовское дело (и тут он совсем не Гёте) – удаление от рационального итога, от гётевской точки. И в пластике языка, и в композиции, и в той религиозной вопросительности, которая отличает смерть-вознесение Тамары от вроде бы аналогичного действия Гретхен.
Есть чудо «Мцыри». Скажу о трех ключах, которые, на мой взгляд, делают поэму антифаустовской. Во-первых, скорбь о потерянном рае и образ бытия-монастыря. Печаль о прошлом наполняет самую значительную из лермонтовских исповедей (уж точно не жанр Гёте). Конечно, это отнятое детство героя, утраченные отец и мать, самое первое родство – в скорбном тумане. Путь Мцыри – превращение аула в нечто большее, а тоски по родине – в метафизику утраченного дома, который в символическом поле поэмы расширяется до сакрализации прошлого как высокой поэзии жизни. Причем, прошлое, проходя проверку тремя днями движения, предстает утраченным раем; скорбь о нем перерастает «реалистический» кокон биографии Мцыри – и к финалу он подходит с познанием отсутствующей страны земного счастья, а кульминация – превращение монастыря, из которого совершен побег, в монастырь, совпадающий с жизнью и смертью человеческой; и фаустовские модели маршевого достижения цели здесь не работают. Фауст – это уничтожение монастырских тайн Европы, такой серьезный (не всегда, впрочем) еще один Боккаччо, которого непоправимо тянет в анекдот, даже если он обещает трагедию. Когда читаешь Лермонтова, понимаешь: в таком русском монастыре, даже если он не полностью совпадает с каноническим, стыдно быть Фаустом с его потрепанным хвостом – Мефистофелем. В «Герое», «Демоне» и «Мцыри», в многочисленных элегиях – предстояние: все мы тут перед таинственным Небом. У Гёте небо стало газоном или ковром, которые нужно то чистить, то менять, то топтать копытами.
Во-вторых, это спасенная или хотя бы сохраненная женская душа. Трудно не заметить, что в «Фаусте», да и в «Мейстере», убиенная спутница – этап самосозидания героя, без погубленных Маргариты и Елены Фауст совсем не Фауст. Надо подзарядиться павшими возлюбленными, чтобы выше-выше возноситься! Иначе у Лермонтова, какой текст не открой: сметенные с дороги подруга или жена – верный знак саморазрушения героя. Арбенин, Печорин, Демон – везде такой сюжет: приходится платить.
Кроме Мцыри! Тихо поющая Грузинка, великая в бедности, простой красоте и свободе от видения стандартного лермонтовского захватчика, лишь касается сознания героя, волнует – но не зажигает, не обещает, и Мцыри совершает важнейший для Лермонтова исход из встречи-интриги с женщиной, что еще раз подтверждает присутствие и разрастание бытия-монастыря. Не стать земным отцом! Да и Демон – это не столько о зависимости от Тамары, сколько о трагической любви, не угасшей даже при отлучении от Первоисточника. Ангел с огненным мечом оберегает Печорина, Демона и Мцыри от приземления и размена своего набатного одиночества на что-то вызывающе серийное, скучное и тошноватое – как пятигорская целебная вода, которую прописывал и ненавидел доктор Вернер.
В-третьих, преодоленный демонизм. Главный сюжет «Фауста» все-таки прост: низкий демон Мефистофель использован и побежден, чтобы прославился Фауст – демон высокий, способный стратегически управлять машиной прогресса. «Мцыри» с последней молитвенной формулой («и никого не прокляну») – это завершение истории лермонтовского сатаны: Мцыри – все-таки монах, а не демон. Монах бытийный – в поэзии и религиозной печали живущий, а не в стенах монастыря.
Восемь раз переписанный «Демон» - не о том, как циничный дух, отвечающий за динамику и логику творческих искушений, помогает достичь результата. Это о трагедии любви, которая чаще приводит к смерти, чем к возрождению. Это молитва о возвращении, о прощении, о главной из желанных метаморфоз - когда пустыня или сам ад перестанут быть бесплодной землей, и рай или хотя бы небесный свет исцелят душу печоринскую или авторскую. «Демон» сообщает, что Бог есть, что с Ним трудно - и никакой прогресс, никакие работы по перестройке Библии в идеологический театр не заменят Бога Живого.
«… Что же это такое! Ты скажи определенно – разъясни и дай формулы: чем наш русский демон отличается от западного, как завершилась встреча с падшим духом у автора «Героя нашего времени» и каков итог у написавшего о Фаусте?» По законам поэтики Гёте, я должен быть чётким в ответе на этот важнейший вопрос, обязан в данном эссе преподнести развязку, не уступающую по ясности сцене поражения Мефистофеля и подъема на небеса верно финишировавшего Генриха. По законам поэтики Лермонтова, ничего подобного я делать не должен, ибо превращение поэтической тайны в инструкцию уже есть демон. Понятно, что я останусь с нашим поэтом. Встреча значительнее её протокола.