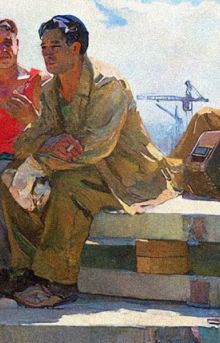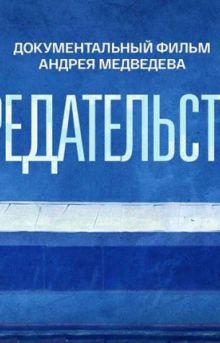В своём «Капитале» К. Маркс приводит поучительные откровения некого «англиканско-протестантского попа Таунсенда»:
«Законодательное принуждение к труду сопряжено со слишком большими трудностями, насилием и шумом, между тем как голод не только представляет собой мирное, тихое, непрестанное давление, но и, — будучи наиболее естественным мотивом к прилежанию и труду, — вызывает самое сильное напряжение».
Следовательно, все сводится к тому, чтобы сделать голод постоянным для рабочего класса, и, по мнению Таунсенда, об этом заботится закон народонаселения, в особенности действующий среди бедных.
«По-видимому, таков закон природы, что бедные до известной степени непредусмотрительны (improvident)» (т. е. настолько непредусмотрительны, что являются на свет не в обеспеченных семьях), «так что в обществе постоянно имеются люди (that there always may be some) для исполнения самых грубых, грязных и низких
функций. Сумма человеческого счастья (the stock of human happiness) благодаря этому сильно увеличивается, более утонченные люди (the more delicate) освобождаются от тягот и могут беспрепятственно следовать своему более высокому призванию и т. д. Закон о бедных имеет тенденцию разрушить гармонию и красоту, симметрию и порядок этой системы, которую создали в мире бог и природа».
Экономической мотивации труда посвящены и эти строки Н. Некрасова:
«В мире есть царь: этот царь беспощаден,
Голод названье ему.
Водит он армии; в море судами
Правит; в артели сгоняет людей,
Ходит за плугом, стоит за плечами
Каменотесцев, ткачей».
Но какое отношение имеет голод к Перестройке? К торжеству свободы, гласности, к «правам человека», «передовым методам хозяйствования», «рыночным реформам», частной собственности? Разве хоть один академик, ученый, политик или поп говорил о бедности, о голоде, иначе, нежели в связи с проклятым советским прошлым? Купи еды в последний раз – не так ли ельцинские пропагандисты пугали обывателя возвратом к социализму? Для живописания же светлого рыночного рая ими использовались другие образы, в которых понятия голода не существовало в принципе.
Страх голодной смерти «учеными» партийными господами изящно выдавался за «естественную» мотивацию к труду, за тихое «экономическое» принуждение, в противовес советскому «законодательному насилию», уголовно карающего свободную личность за тунеядство и паразитизм. Какая трогательная забота со стороны политбюровских ренегатов о сохранении «симметрии и порядке, созданных в мире природой и богом!»
Обмануть человека легко. Его естественная доверчивость, благожелательность, доброта зачастую используется «учеными» прохиндеями ему же во вред или даже на его погибель. Дело усугубляется и тем, что в большинстве своем перестроечные оракулы были убеждены в правоте своих радикальных идей, действовали бескорыстно, с азартом и куражом обрушиваясь язвительным словом на неповоротливых, растерянных, косноязычных партийных бонз. Слова подкреплялись убедительными аргументами в виде пустых прилавков магазинов, очередей, спекулянтов с одной стороны и благостными картинками рыночного изобилия с другой. Результат не заставил себя ждать. Иррациональная вера в чудо не только овладела общественным сознанием, но и была положена в основу практической политики огромного современного государства.
Удивительно, но даже после сокрушительного провала преступного социального эксперимента, даже после разрушения Советского Союза, ликвидации высокотехнологичного производства, утраты почти всех геополитических позиций, находятся идеалисты-мечтатели, которые до сих пор не испытывают сомнений в верности выбранного в 1991 году курса на экономические и политические «реформы». Высказываются лишь сожаления о «неправильности» построенного с такими издержками капитализма, о засилье государства в экономике, об отсутствии конкуренции, свободного рынка и состязательной демократии. Вместо того, чтобы оглядеться, поразмыслить над горестными плодами воплощения в жизнь дилетантских прожектов невежественных и своекорыстных мечтателей, предлагаются пути дальнейшего «углубления» и «расширения» либеральных реформ, приватизации, «дерегулирования» экономики и прочие меры, хорошо известные миру по их неизбежно катастрофическим последствиям.
Объективному анализу положения дел в стране противодействует консолидированный интерес крупного капитала, финансовой олигархии и государственной бюрократии, не настроенных на поиск истины и никак не желающих пересматривать устои системы, обеспечивающих сверхвысокий уровень потребления и привилегированность их положения в обществе. Какой собственник согласится с тем, что корень зла таится в самом институте частной собственности? Какой «предприниматель» назовет «бизнес» спекуляцией и узаконенным грабежом? Какой чиновник признается в том, что он защищает интересы господствующего класса буржуазии и тем кормится? Нет, в такой плоскости общественный диалог выстроить никак не удастся. Вот про зарплаты, инфляцию, инвестиции, пенсии, налоги оппозиция может голосить сколько угодно, иногда даже добиваясь снисходительного кивка и каких-то уступок от власти.
Тем не менее, именно в «устоях», в самом способе общественного производства следует искать ответы на волнующие общество вопросы. Принятое на веру в перестройку утверждение о преимуществе рыночной экономики над плановым производством настоятельно требует критического пересмотра с целью выработки выхода из сегодняшнего исторического тупика с минимальными потерями. Разумеется, ни рынок, ни закон стоимости, ни собственность, ни деньги не являются производительными силами, поскольку лишь в той или иной мере опосредуют товарный обмен, имеют дело с уже созданными трудом и разумом человека ценностями.
Речь следует вести о способе производства, а не обмена. Не будет производства — нечем будет и обмениваться. Но, сколь ни удивительно, перестроечные «ученые» пустозвоны менее всего свои причитания посвящали проблемам производства, уходя в рассуждения об «объективных экономических законах», о «неэффективности» государственного управления экономикой, о благотворности конкуренции и естественности взаимной борьбы за существование, о демократии и фермерах, плюрализме и «дефиците», свободе и правах человека, словом обо всем, что только исторгало воспаленное сознание образованного человека той смутной эпохи.
Социалистическое производство является логическим продолжением финальной, монополистической фазы капиталистического производства. Любая конкуренция ведет к образованию монополий, охватывающих целые отрасли экономики. На базе финансового капитала возникают транснациональные корпорации, способные поглотить в себя не только отрасли, но и целые страны. С кем они конкурируют? Какая обществу польза от того, что, например, колоссальные прибыли присваиваются кучкой частных лиц, к производству вообще не имеющих никакого отношения?
В таких условиях, естественным путем преодоления возникающих противоречий является обобществление производства, ликвидация самого института частной собственности с последующим интегрированием всей экономики в единый плановый народнохозяйственный комплекс. Социализм всего лишь доводит до логического конца то, что не может быть достигнуто при капитализме – охватывает процессом монополизации всё производство.
При социализме производители не конкурируют друг с другом, не обмениваются продукцией и полуфабрикатами - они работают согласованно, по единому плану, в интересах всего общества, а не отдельных его членов. Так что восхититься красотой бедности, вдохновиться идеей гармонии нищеты, голода и бесправия при коммунизме будет некому…