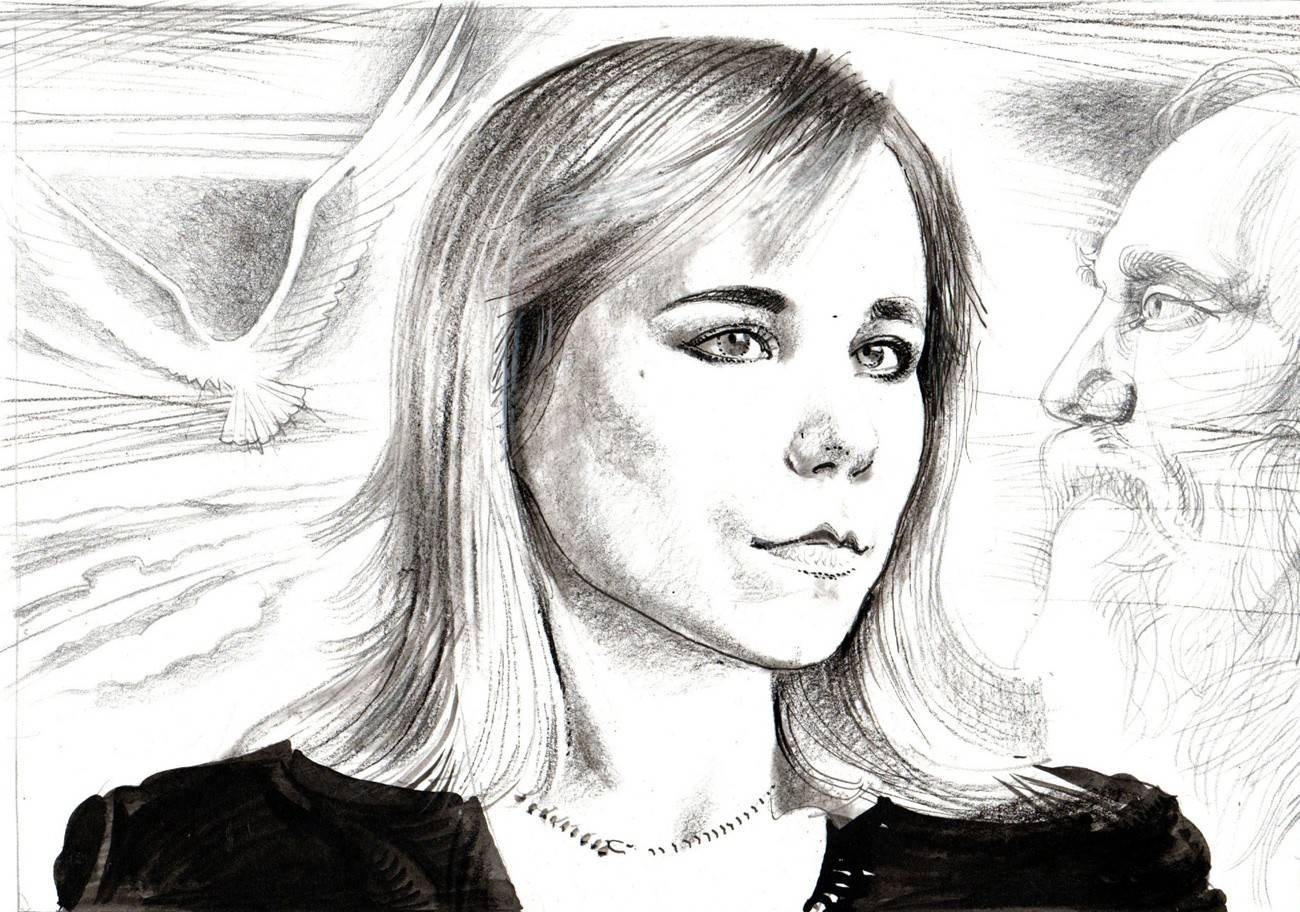Постепенно продвигается работа над новым направлением — общая теория ужаса.
Хайдеггер противопоставляет ужас (Angst, anxiety) и страх (Furcht, fear). Страх заставляет нас бежать, ужас — замереть как вкопанные. В психиатрии различие между anxiety disorder и fear несколько иное, но дополняющее хайдеггеровский дуализм. Ужас возникает изнутри и перед чем-то неопределенным и невыразимым. Страх всегда приходит извне и имеет — пусть как фантазм — причину, форму и объяснение.
Angst прекрасно передают фильмы Давида Линча. Но это совсем не то, что horror.
Интенсивный внутренний ужас делает человека бесстрашным.
И наоборот — погружение в мелкий трясущийся страх (тварь дрожащая) защищает от удара ужаса изнутри.
Перспектива расчеловечивания человека, становящаяся все более острой и близкой, может порождать и страх, и ужас. Страх заставляет увертываться, ужас подвигает к войне лицом к лицу.
Ужас ближе к вечности. Страх присущ времени.
Юджин Такер в «Ужасе философии» в духе критического реализма (ООО) объясняет ужас через три типа «мира».
1. Мир-с-нами, то есть мир как экзистенциал Хайдеггера (in-der-Welt-sein). Эту тему развивает друг Хайдеггера и ученик Гуссерля Ойген Финк —kosmologische Differenz — различие между вещами мира и миром как целым Финк трактует в духе различия между сущим и бытием Хайдеггера (Игра как образ мира).
2. Мир-сам-по-себе. Материалистическая теория объекта.
3. Мир без нас. Он-то по Такеру и внушает ужас, так как лежит между миром-с-нами и миром-самом-по-себе. Это промежуточное измерение есть опыт контакта нас с тем, что активно и конкретно упраздняет саму нашу природу. Это и есть зона чистого ужаса. Не страха. Контакт с миром-без-нас намного острее личной смерти. Когда мы гибнем, наш вид остается. Но опыт гибели вида есть нечто по-настоящему ужасное. Об этом сейчас задумался Илон Маск.
Эта тема появляется у других спекулятивных реалистов — Мейясу и Хармана в сходном контексте. Строя онтологию объектов, они моделируют конец субъекта (и любого корреляционизма) и приходят к гипотезе бытия обратной стороны вещей, где концентрируется абсолютный ужас. Иллюстрируют они это мотивами и сюжетами Лавкрафта, вводя его образы и идеи о богах-идиотах и подводных цивилизациях в философию.
У самого Хайдеггера есть намёки на это, поскольку ужас (Angst) у него выступает как опыт ничто или чистого бытия («Что такое метафизика?»). Но критические реалисты адаптируют Хайдеггера к своей обсессии объектами и демонтажом жизни, субъекта и Dasein’а, тогда как у Хайдеггера Dasein — главное.
Конечно, общую теорию ужаса надо начинать с природы сакрального и со Страха Божьего (здесь явно речь идет об ужасе, Angst — Бог не пугает, он именно ужасает). Далее Бёме, Паскаль, Гегель, Кьеркегор, и лишь потом Хайдеггер и пост-хайдеггерианство — от Сартра и Камю до Делеза и ООО. Кстати, у Паскаля и Кьеркегора ужас вызывает именно самостоятельная Вселенная, открытая физикой Нового времени — холодная и бесконечная. Возможно, именно она и ответственна за гротескные описания темной природы в Боге в теософии Бёме. Мысль Плотина и Дионисия Ареопагита о пред-бытийном Едином, об апофатике настраивала на иной — преображающий, возвышающий, обожающий — тип ужаса.
Страх Господень — вертикальная ось бытия. Что могло бы быть явлением или понятием, наиболее близким к русскому ужасу? Как русские переживают и толкуют ужас?
На первый взгляд, русский не знает ужаса перед миром, потому что мир для нас органичное продолжение себя – основа слов «мир» и «милый», по Колесову, одна. Милое не внушает ужаса. Мир как община тоже.
Поэтому русский не знает природы как таковой (самой по себе, объекта). Русские норовят оживить и одухотворить ее. Отсюда техноанимизм Андрея Платонова, его магический большевизм, и, конечно, Федоров, для которого материя есть танец частиц праха отцов. Познавшие сладость жизни атомы Циолковского.
Наша наука не материалистична, но пантеистична.
Русскому ужас внушает скорее не отсутствие и отчуждённость жизни, а её эксцессы и аберрации. Отсюда преимущественно славянская тематика упырей. Упырь — эксцесс жизни. Он должен был бы быть мёртв, а он почему-то нет.
Упорное жизнелюбие русского человека, видимо, смещает ужас слишком глубоко вовнутрь — так что мы сами его не замечаем. Но вот другие замечают.
Ужас внушаем мы.