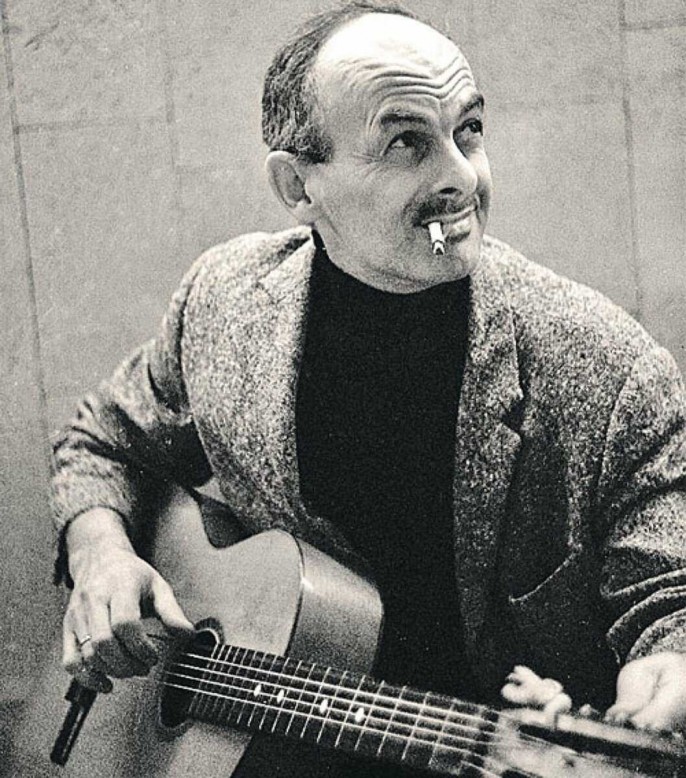Эволюция Булата Окуджавы от певца синего троллейбуса, собирающего по мере передвижения по ночной Москве нуждающихся в его помощи людей и объединяющего их всех их в недрах своего салона общей, так сказать, гуманистической задачей в некое подобие религиозной общины до мизантропа, наслаждающегося расстрелом у Белого дома русских людей стала шоком для многих его почитателей.
Между тем никакой эволюции не было. Окуджава - певец интеллигентской групповщины, носитель сознания, черты которого чрезвычайно точно определил писатель и философ Владимир Кормер в статье «Двойное сознание интеллигенции и псевдокультура», и, помимо этого, в художественной форме отразил её идеи в романе «Наследство», где со знанием дела, в крайне неприятном и даже отвратительном виде выведен ряд представителей интеллигентской среды, в их числе – диссидент конформистского толка, предлагающий свои услуги в качестве религиозного провокатора органам госбезопасности. И то и другое произведение в конечном счете оказалось смачным плевком в обобщенную физиономию русского либерального интеллигента, так как, будучи профессиональным философом, Кормер смог прочувствовать и выразить довольно неожиданные вещи, определяющие не всем видимую его суть. В частности, характеризуя изначальную дегенеративность, так сказать, этой прослойки, Кормер отмечает вот какой важнейший факт: «появление в определенной точке пространства, в определенный момент времени совершенно уникальной категории лиц, одержимых некой нравственной рефлексией, ориентированной на преодолении глубочайшего внутреннего разлада, возникшего между ними и их собственной нацией, меж ними и их собственным народом… Никогда, никто...не был до такой степени, как русский интеллигент, отчуждён от своей страны, своего государства, никто, как он, не чувствовал себя настолько чужим – не другому человеку, не обществу, не Богу, - но своей земле, своему народу, своей государственной власти. Именно переживанием этого характернейшего ощущения и были заполнены сердце и ум образованного русского человека...именно это сознание коллективной отчужденности и делало его интеллигентом».
Отметив далее оппозиционность интеллигенции любой власти, Кормер выводит из этого факта еще более глубокое обобщение: «в случае интеллигенции, как тогдашней, так и нынешней, речь идет совсем не о политической оппозиции, или даже о долговременной ее стратегии с целью достижения каких-то определенных интересов, - речь идет о самом типе бытия, об экзистенциальной сущности явления. Необходимо поэтому все время подчеркивать, что интеллигенция формируется совсем не по принципу порядочности или отвержения неправды, она формируется на идеях особого мировосприятия, в котором первенствуют специфические воззрения, возможно и связанные как-то с идеями Добра, но во всяком случае, очень и очень опосредованно. У интеллигенции, по сути дела, своя этика, своя нормативная система, в которой неприятие зла не есть императив, но лишь необходимость». Ещё и поэтому, проницательно отмечается далее, «если сегодня интеллигенция не отвергает добродетель совершенно, то лишь потому, что на опыте знает, что добродетельный человек лучше разбойника, с ним безопаснее жить бок о бок, и что, следовательно, невыгодно призывать к анархии и произволу». Здесь нелишне, поскольку статья написана более чем полстолетия назад, внести поправку на нынешнее время. Кажется, безумие интеллигенции дошло сегодня уже до такой степени, что даже вопрос безопасности в случае нарушения моральных норм чреватый в первую очередь для нее самой, уже не учитывается. Зато, несомненно, он учитывался Кормером, заметившим далее: «хотя, конечно, в случае нужды можно и этой добродетелью поступиться... На самом деле устойчивых моральных принципов нет. Нет различия добра и зла, все относительно, по мнению русской интеллигенции. Хорошо зная себя, свои слабости, сегодняшний русский интеллигент готов «понять и извинить» что угодно. Он оправдывает предательства, доносы, пасквильные статьи в газетах, написанные его знакомыми, ложь в публичных заявлениях».
Таков основной фронтир извращенной интеллигентской духовности, порожденный очень важным обстоятельством, отмеченным Кормером раннее: «когда человек отказывается от Бога и, следовательно, от свободы – ибо «где Дух Господень, там свобода», - он тем самым избирает своим принципом – необходимость. Становиться исповедником, или, что в данном случае то же самое – рабом необходимости. И вот тогда-то именно она, эта необходимость, и избавляет его от нужды выбирать между добром и злом, избавляет от ответственности, снимает вину за содеянное. Уж не он выбирает, но за него она, он лишь вынужден следовать необходимости, он поставлен перед необходимостью, поставлен в такие условия. Отказываясь от своей свободы, человек отказывается тогда и от собственной личности, он перестает видеть в себе довлеющую самой себе ценность и – что бы он не думал о себе! – становиться ...лишь элементом – необходимым, конечно, но элементом – в системе. «» Отсюда и проистекает та философия служения общей пользе, философия идеального функционирования элемента в системе, особенно в сугубо интеллигентском варианте «просветительства». Рассуждение об общей пользе осталось любимейшим рассуждением русского интеллигента. Им он успокаивает свою совесть, растревоженную очередным компромиссом. С его помощью он оборачивается к миру вторым своим лицом, оставляя временно свой пессимизм и заставляя себя верить в конечное торжество разума. Подлинная корыстная мотивация поступков идеально маскируется при этом, настоящие стремления быстро и накрепко забываются».
Интересно в этом контексте то, что можно было бы весьма условно назвать интеллигентской религиозностью, тоже, естественно, весьма двусмысленной и фальшивой, которую, кстати, тоже не обделяет вниманием Кормер на страницах своего романа. Русский интеллигент, наиболее полным выразителем взглядов которого выпало стать Окуджаве, если и атеист, то, по обыкновению этого вечно во всем сомневающегося и противостоящему всему и вся сословию, неабсолютный, ибо наличие хоть чего-то высшего, хотя и смутного, не обладающего какими-либо очертаниями, он все-таки признает. Но его узко-прагматичное сознание никак не может уложить его внутри в четко определенную форму. Собственно, поисками такой формы для никак не могущей быть определенной святыни Окуджава был занят.
В начале творческого пути он, в числе других шестидесятников, в качестве объекта всечеловеческого объединения пробовал религиозно разрабатывать архетип революции, на обожествлении деятелей которой он воспитывался. Вспомним комиссаров в пыльных шлемах, отметившихся в его творчестве непосредственно перед во всех смыслах холостым московским муравьем, в семидесятые годы ознаменовавшим новый этап развития этих диковатых верований. Ведь содержание «Песни о московском муравье» отнюдь не любовное, как можно было бы подумать – оно именно о поисках человеком божества, способного облагородить и возвысить никчемную без его присутствия жизнь, придать ей давно утраченный или выветрившийся из нее смысл, крайне необходимый для продолжения дальнейшего существования. Но если точнее – то все таки о создании интеллигентом подходящих ему кумиров.
Читая стихи Окуджавы, слушая его песни, нам стоило бы держать в уме относительно религиозных мотивов, наличествующих в них, достаточно простую, расставляющую все на свои места мысль: образы, отражающие эту религиозность, как правило, весьма приземленную, наделяются чрезвычайно расплывчатой, смутной и отвлеченной терминологией, тогда как для человека верующего в этих неточных, двоящихся терминах, распознается смысл более чем конкретный. После этого мы легко можем за неточной терминологией и тем, что лишь смутно чудиться не понимающему того, о чем он пишет, автору, различить настоящий, а не влагаемый им по неведению смысл, часто прямо противоположный тому, который в конечном счете возникает помимо его желания и воли, как, например, в последнем куплете песни о муравье:
И тени их качались на пороге,
Безмолвный разговор они вели,
Красивые и мудрые как боги
И грустные, как жители земли.
Вряд ли Окуджава апеллировал посредством этих строк к авторитету Библии, отражая в них обещание змия-искусителя, предложенное прародителям: будете как боги (хотя, допускаю, где-то на задворках его сознания воспоминание о них все-таки брезжило). Но вот что ему была понятна вся глубина дьявольской лжи, стоящей за этими словами – это куда как сомнительно. Никак не рассеиваются подозрения, что автор, по известной интеллигентской ограниченности, вложил, или, скажем так, хотел вложить нечто прямо противоположное тому, что чудится в этих пропетых стихах слушателю, а именно: молиться он может не Высшему, а только такому же, как сам. Есть ведь, например, в обороте «поверить в очарованность свою» предположение о некой насильственности, кою должно, по Окуджаве, производить над собой существо, не признающее никаких авторитетов, но вдруг возжелавшее прикоснуться к недоступному его пониманию религиозному идеалу. Вот почему предшествующая этим словам фраза «вдруг захотелось в ноженьки валиться» явно отмечена нескрываемым ироническом окрасом. Более же всего стоит обратить внимание на самую первую строку, задающую тон последующему: «мне нужно на кого-нибудь молиться», предполагающую в числе вариантов совершенно случайный объект: на кого-нибудь, кому-то, не важно кому - пассаж, вполне в духе прелестной интеллигентской религиозности.
Отметим по ходу еще один не без любопытный обертон этой же темы, а именно - своеобразные колебания зооморфного, благодаря которому человек вначале низводиться до положения муравья, а уж затем, с низшей по сравнении с человеческой ступени возводиться в ранг бога, бога, разумеется, не с заглавной, но с прописной буквы, потому как и в возникшей на пороге его жилья богине подразумевается точно такое же человеческое существо, причем подчеркнуто интеллигентного вида. И, наконец: интеллигент Окуджавы возносит молитву существу, по степени духовной иерархии находящемуся с ним вровень, ибо, коль уж он почувствует потребность в религии, то предпочтет создать ее сам по своему образу и духу вместо того, чтобы воспользоваться готовыми формами, наработанными за долгие годы существования его страной и народом, мнения которого ему совершенно не интересны.
То же самое мы можем найти и в других песнях(«Молитва Франсуа Вийона» и пр.), где присутствует разрабатываемая Окуджавой тема, но вот что интересно: предлагается несколько разнящихся друг от друга вариантов мнимой религиозности, однако ни один из них не связан с Христовой церковью, даже не Христовой – с какой бы то ни было. Наоборот, в целом ряде песен наличествует хотя и не явное, но весьма твердое ей сопротивление, внутренний мир протагониста противопоставляется ее объективной данности, более того, даже возможность приближения к ней решительно отвергается. В результате мнимая религиозность предстает некой замкнутостью, не в последнюю очередь создаваемая за счёт ограниченности поставленных перед собою задач, пускай и не лишенных определенного идеализма, но, конечно же, без возможности практического их воплощения. И тогда создается довольно абсурдная ситуация: Бог, признаваемый Окуджавой, а вместе с ним его единомышленниками-слушателями в силу их отвлеченности от религиозной - православной, или даже, допустим, мусульманской, терминологии на уровне словесном, но не понятийном, лишается каких бы то ни было личностных черт, вернее, даже не лишается – их отсутствие предполагается изначально, так как Бога, по их мнению, вообще-то нет. Зато это место занимает он, интеллигент, считающий ниже своего достоинства идти на исповедь под поповскую епитрахиль, да и от церкви бегущий как черт от ладана. И если придет ему в голову блажь молиться, то, скорее всего, он сделает это, встав перед зеркалом и с обожанием глядя на собственное отражение. Он ведь – пуп земли; все остальные – масса, толпа, абстрактная до такой степени, что можно даже не вспоминать о том, что с некоторыми её представителями когда-то соприкасался локтями в салоне ночного троллейбуса или совместно с ними с чувством распевал «Возьмемся за руки друзья» на очередном бардовском сборище и с удовольствием услаждаться их убийством в Белом доме.
Учитывая это, как-то лучше начинаешь понимать и мотивы поступков современного интеллигента, и истоки его сознания. Прежде всего, конечно, сознания собственной исключительности при беспрекословном подчинении корпоративным условиям среды, где он постоянно варится и без поддержки которой и выработанных ею правил каждый отдельный ее представитель беспомощен.
«Двойное сознание, - считал своим долгом уточнить Кормер, - это такое состояние разума, для которого принципом стал двойственный взаимопротиворечивый, сочетающий взаимоисключающие начала этос, принципом стала опровергающая самое себя система оценок текущих событий, истории, социума. Здесь мы имеем дело с дуализмом, но редкого типа. Здесь не дуализм субъекта и объекта, не дуализм двух противоположных друг другу начал в объекте, в природе, в мире – добра и зла, духа и материи, но дуализм самого познающего субъекта, раздвоен сам субъект, его этос. Поэтому употребленное раннее выражение «шизоидность» не годиться: оно несет слишком большую эмоциональную нагрузку, слишком предполагает патологию. Между тем, интеллигентская раздвоенность, хотя и доставляет неисчислимые страдания и ощутимо разрушает личность, все же, как правило, оставляет субъекта в пределах нормы, не считается клинической, что объясняется, безусловно, прежде всего тем, что двойное сознание характеризует целый социальный слой, является достоянием большой группы, а не есть исключительно индивидуальное сознание. Поэтому, оставаясь не преодоленным в разуме, разлад, тем не менее, преодолевается экзистенциально, в особого рода скептическом или циническом поведении, путем последовательного переключения сознания из одного плана в другой и сверх интенсивного вытеснения нежелательных воспоминаний. Психика, таким образом, делается чрезвычайно мобильной; субъект непрерывно переходит из одного измерения в другое, и двойное сознание становиться гносеологической нормой». Вот почему, в частности, интеллигенту с легкостью удается убедить себя в том, что атеизм – это вид веры; что олигархическая диктатура – это демократия в чистом виде; что, скажем, если брать события последнего времени на Украине, убийство людей неприемлемо, но, вместе с тем, при определенных обстоятельствах оно может стать необходимостью; или в том, что насилие над человеческой личностью может восприниматься как весьма гуманистический акт. В последнем для единомышленников и последователей Окуджавы нет ни малейших сомнений.