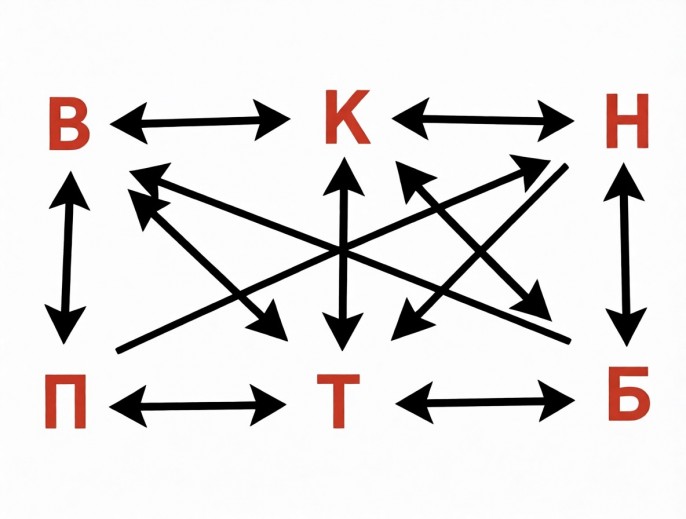От автора.
Этот текст, начатый ещё в 1994 году, посвящён теме, в нынешней ситуации абсолютно невостребованной, и, к тому же, вряд ли может быть завершён в изначально запланированном виде, но, надеюсь, даже в нынешнем его состоянии (которое всё-таки постараюсь улучшить и дополнить) некоторые представленные здесь мысли способны оказаться небесполезными для читателей.
План работы
Введение.
Понятие загадки. Сущностные черты и особенности предмета исследования, история вопроса, сравнительная этимология.
1. ЗАГАДКА И ЗАГАДОЧНОЕ.
1.1. Категория загадочного.
Гносеологические различия загадочного и таинственного как двух разновидностей непознанного.
1.2. Загадка и предсказание в истории культуры.
Античное представление о «роке», китайское «дао», «И Цзин», ареал загадок и ареал предсказаний, легенда о Эдипе как модель соотнесения загадки и оракула.
1.3. Генезис жанра.
Архаическая загадко-пословица и её развёртывание в паремиологическую парадигму, предзагадки и загадка.
2. ЗАГАДКА КАК ЖАНР ФОЛЬКЛОРА.
2.1. Загадка и фольклор.
Взаимоотношения загадки с другими жанрами народного творчества, паремиологическая парадигма и парадигма сказки.
2.2. Диалог в загадке.
Загадка и её подтекст (отгадка), хронотоп и диалог, загадка обычная и конвенциональная.
2.3. Загадка в роли культурологического маркера.
Особенности русской загадки в сравнении с загадками родственных и соседствующих народов.
3. ТИПОЛОГИЯ И ПОЭТИКА ЗАГАДКИ.
3.1. Проблема типологии.
Существующие классификации загадки, их типологические принципы.
3.2. Образность в загадке.
Загадка как художественное произведение, семантические поля и ассоциативные связи слов, синкопально-векторные отношения, эстетические категории, межкатегориальные переходы и эстетический идеал.
3.3. Эстетическая типология загадки.
Типология в связи с поэтикой загадки как фольклорного жанра, поэтика и логика.
4. ЭВОЛЮЦИЯ ЖАНРА.
4.1. Основные векторы эволюции.
Возможности развития загадки, «красное» и «синее» смещение жанра, фило- и онтогенез.
4.2. Детская и книжная загадка.
Становление книжной (литературной) загадки, развитие загадки в детской литературе и детском фольклоре.
4.3. Эстетика загадки и эстетика модернизма.
Модернизм как художественное явление и способ художественного отражения действительности; модернизм как эстетическое проявление загадочного; загадка, детектив и модернистская проза.
Приложение 1:
О статусе эстетики в культуре ХХ века.
Формы человеческого познания и аксиология культуры, «эстетическая» и «этическая» революции, становление «космической этики».
Приложение 2:_
Мифологизация истории как феномен политического сознания.
Мифы как показатель социальной общности.
Приложение 3:
От триады к Троице. Заметки о китайском.
Введение
Без лица в личине
(Загадка)
Независимо от первых исследователей фольклора, а тем более — от позднейших паремиологов, русский народ в лице своих безвестных мыслителей выразил собственное понимание загадки, вынесенное выше в качестве эпиграфа. Согласно этому народному определению, загадка предстаёт перед нами явлением странным, парадоксальным, но, тем не менее, в высшей степени цельным и самодостаточным.
Действительно, назначение личины (маски) — скрывать или заменять собой истинное лицо (ср. "личинка" у насекомых). Но раз лица под личиной не оказывается, функции последней должны быть принципиально иными. Какими? — выяснению этого вопроса, собственно, и посвящена предлагаемая работа. Отмечу лишь, что фольклорная традиция, определяя загадку в форме самой загадки, наглядно подчёркивает огромную важность принципов, заложенных в этом жанре, для народного сознания вообще.
Сравнимый с загадкой статус имеют здесь разве что пословицы (ср. "Пословица недаром молвится" и т.п.). Именно соотнесённость русской загадки с народным мышлением и его принципами была положена в основу первых отечественных концепций жанра. "Едва ли не со времен И.А.Худякова, писавшего о том, что загадки представляют собой "народную науку, цикл народных сведений о предметах, наиболее интересных для народа: о физических явлениях, о предметах естественной истории и народного быта", — укоренился взгляд, согласно которому загадки — это своеобразный курс народного мироведения"[1], — отмечал В.П.Аникин.
Своеобразие данного "курса" представители мифологической школы усматривали в очевидной для них генетической связи мифа и загадки: не только русской, но и загадки как жанра вообще. "Близкое отношение загадки к мифу придало ей значение таинственного ведения, священной мудрости, доступной по преимуществу существам божественным. У греков задает загадки чудовищный сфинкс; в скандинавской Эдде боги и великаны состязаются в мудрости, задавая друг другу загадки мифологического содержания, и побеждённый должен платить своею головою"[2],— такие объяснения находим у А.Н.Афанасьева.
Близкие соображения присутствуют и в классической работе Э.Б.Тайлора, опубликованной в 1871 году: "Сочинение загадок до такой степени связано с мифологическим периодом в истории, что всякое поэтическое сравнение, если оно не слишком темно и отдалённо, при известной небольшой перестановке может стать загадкой. Индусы называют Солнце Санташва, т.е. "едущий на семи лошадях", и та же самая мысль заключается в старой германской загадке, где спрашивается: "Какую повозку везут семь белых и семь чёрных лошадей?" (Год, который везут семь дней и семь ночей недели)"[3].
Однако уже в 1876 году Д.Н.Садовников, издавший одно из лучших, вплоть до настоящего времени, собраний русских народных загадок, связал их "мироведение" не столько с мифологическими глубинами, сколько с "бытовой обстановкой и мировоззрением русского народа"[4]. Вытекавшая из этой связи и впервые применённая им классификация загадок по тематике отгадок до сих пор остаётся общеупотребительной.
В дальнейшем специальные исследования русской загадки оказались направленными на выяснение семантики её структурообразующих элементов. "Остранение — не только приём эротической загадки-эвфемизма, оно — основа и единственный смысл всех загадок"[5],— утверждал В.Б.Шкловский. Склонность к отождествлению формального приёма и сущности фольклорного произведения можно заметить и в дефиниции Ю.М.Соколова: "Загадка может быть определена как замысловатый вопрос, выражаемый обычно в форме метафоры"[6].
Постепенный отход от такого формально-лингвистического понимания загадки проявился прежде всего простой сменой определяемого, как это можно наблюдать у В.И.Чичерова: "Загадка — иносказательное описание (т.е. метафора! — В.В.) какого-либо предмета, данное обычно в форме вопроса"[7]. Наконец, В.П.Аникин совершил радикальный шаг, вообще отрицая загадку в качестве носителя "народного знания", и предпринял попытку рассмотреть её с позиций сугубо эстетических: "Множество, если не подавляющее большинство, загадок посвящено самым простым предметам крестьянского обихода,.. тому, что произрастает в саду, в огороде,.. а также домашним животным. Назначение этих загадок, конечно, не в том, чтобы закрепить в сознании людей свойства и качества простых и хорошо известных всем предметов и вещей... Функции загадок иные... Определяя загадку по существу её жизненного назначения, по её смыслу, можно сказать, что загадка это поэтическое замысловатое описание (выделено мной. — В.В.), сделанное с целью испытать сообразительность человека, равно как и с целью раскрыть ему глаза на поэтическую красоту и богатство предметно-вещественного мира. Область загадки — поэзия по преимуществу"[8].
Те же, по сути, эстетические взгляды выражает и В.В.Митрофанова: "Загадка — краткое, требующее отгадки, опирающееся на иносказание (чаще всего на метафору во всех её проявлениях) поэтическое произведение о явлениях природы и предметах, окружающих человека в его повседневной жизни и труде"[9]. "Народ одушевил каждую вещь в избе, на дворе, за околицей. Загадка в его быту — школа поэзии"[10],— суммирует В.Берестов. Интересно, что и В.Б.Шкловский более чем через полвека вновь обратился к загадке, причём с такой коррекцией своих первоначальных взглядов, которая лучше любых силлогизмов свидетельствует о распространении сугубо эстетического понимания этого жанра: "Задачей в загадке является обновление значения через перестановку признаков. Разгадывая, мы располагаем признаками и радуемся тому, что раньше мы не знали смысла отдельности. собранная вещь является вещью узнанной. Загадка является предлогом к наслаждению узнавания"[11].
Наслаждение узнавания... Этими словами сформулировано не что иное, как собственно эстетическая функция искусства. И с данных позиций утверждение эстетических взглядов на сущность русской загадки, которое отражено как в последних изданиях энциклопедического характера[12], так и в повседневной практике, — оказывается, скорее, не отрицанием, а уточнением исходных общегносеологических концепций загадки как "мироведения". Интересно, что ряд отечественных исследователей в процессе своей работе вернулся на эту исходную точку зрения — правда, с иным качеством взглядов, синтезирующим все обозначенные здесь в ретроспективе методологические подходы к изучению загадки:
1) мифологический;
2) мировоззренчески-бытовой;
3) формально-лингвистический (структурный);
4) эстетический.
Разумеется, значимость этих подходов для современного состояния науки далеко не равноценна, а периоды их преобладания даже в отечественной фольклористике можно определить лишь условно. Бесспорными рубежами представляются разве что 1876 год, когда вышел сборник Д.Н.Садовникова, и год 1959, когда, предваряя переиздание того же сборника, В.П.Аникин впервые сформулировал понимание загадки именно как поэтического, то есть целостного художественного произведения. Менее точной выглядит датировка рубежа между вторым и третьим этапами исследования загадки: 1919 год, разумеется, не ознаменовал торжества формально-лингвистического подхода; преобладание последнего стóит отнести уже к первой половине 20-х годов прошлого столетия. Тем не менее, сама последовательность эволюции взглядов на загадку особых сомнений не вызывает, и в целом следует признать, что понимание загадки всегда формировалось на грани гносеологии (науки о познании) и эстетики как таковых.
Приведенное выше высказывание Э.Б.Тайлора о вероятном происхождении загадки из поэтического сравнения путём "известной небольшой перестановки" уже вызывает вопрос о характере такой перестановки — вопрос, решение которого неминуемо прольёт свет и на иной вопрос: почему общегносеологический подход "мифологической школы" перестал удовлетворять позднейших исследователей загадки?
Отвечая на эти вопросы, видимо, следует обратить внимание и на то обстоятельство, что загадка — не только художественное произведение, что она выступает таковым лишь постольку, поскольку создаётся и воспринимается человеком в процессе его жизнедеятельности, в процессе деятельного познания мира, поскольку эстетическая специфика загадки соотносится с её общекультурным и общепознавательным гносеологическим "базисом". Иными словами, жанр загадки не может не реализовывать некоторые сугубо гносеологические и — шире — философские категории: в том числе и через категории собственно эстетические.
Не случайно само понятие "загадки" оказывается во всех славянских языках генетически связано с глаголом гадати, имеющем значение не только "думать, мыслить", но и "предполагать", "ворожить". Вообще же, этимология данного понятия выступает достаточно разнообразной даже в языках наших ближайших родичей и соседей, что служит косвенным свидетельством независимого (хотя бы относительно) развития жанра загадки в каждой языковой (культурной) общности.
Так, в языках, образовавшихся на основе древнерусского, слово загадка относится к общему лексическому фонду, однако в значениях исходного слова гадати существуют некоторые расхождения, видимо, связанные с противостоянием польскому влиянию. В русском языке гадать значит "предсказывать судьбу, угадывать будущее". Иной смысл, утраченный русским языком, присутствует в украинском гадати и белорусском гадаць – "думать, мыслить, рассуждать" (Т.Г.Шевченко: "Дывлюсь я на нэбо та й думку гадаю…").
В польском языке, хотя zagadka идентична восточно-славянским формам слова, zagadać означает уже "заговорить", а zagadywać — "заговаривать, обращаться", также имеет смысл "говорить, болтать", а gadka — не только "разговор", но и "сказка, предание". Другой западно-славянский язык, а именно чешский, обнаруживает две формы для понятия загадки, как это было в русском языке для понятия былины (былина и старина): zahada и hadanka (с производными hadankár — "любитель загадок" и hadankovitý — "загадочный"). Кроме того, hádka здесь еще и "спор, ссора", а — hádáni одновременно и "гадания, ворожба", и "ссора, пререкания". Те же формы прослеживаются и в словацком языке, где, кроме того, существует ещё одно название загадки: hadka, — самое простое из всех славянских слов, обозначающих данный жанр.
Два названия загадки присутствуют и в южно-славянском болгарском языке: идентичное восточно-славянским и гатанка. Гадая означает здесь именно "гадать, предсказывать судьбу". Зато в сербском языке наблюдаются формы, сильно отличающиеся от общеславянских. Загадка обозначается здесь как общепринятой формой зáгонетка, так и устаревшей гонеталица. Оба слова связаны только с глаголами загоненути и гонетати, имеющими смысл "загадывать загадки". Гâтка — это "небылица, басня, сказка", а гатати — "гадать, ворожить, предсказывать судьбу". Через призму сербско-хорватского языка можно рассмотреть уже неочевидное для нас корневое родство действия «гадать» с действиями «гонять» и «гнуть».
Интересно также, что во всех славянских языках (кроме всё того же сербско-хорватского) наблюдается соответствие понятия загадки со словом гад, обозначающим змей, пресмыкающихся, животных вообще. Сюда же относятся и производные слова типа гадкий, гадливый и т.п. (например, в болгарском загадвам се — "начинает тошнить", в словацком hadisty — "извилистый"). Возможно, это сближение и не случайно,— по крайней мере, графическая корреляция между написанием соответствующих слов также наблюдается в каждом из упомянутых здесь языков. И гипотеза о загадке-отгадке как ритуальном обращении животного-тотема к человеку, а также ответе на такое обращение: самостоятельном, либо от имени иного животного-тотема, — хотя и влечёт за собой довольно спорный для автора вывод о глубочайшей древности загадки как жанра, все же требует дальнейшего обсуждения и развития. Во всяком случае, в её пользу косвенно свидетельствуют, помимо возможного этимологического родства, как легенда о Сфинкс (в греческой мифологии это существо женского рода) и Эдипе, так и многочисленные изображения змеек (гадов) на протославянской и древнеславянской керамике.
Греческий язык, давший миру слово ́άινιγμα, сохранил его и в современном варианте. Из греческого понятие aenigma заимствовала латынь, а через неё — все языки романской группы. Но, как свидетельствует В.Н.Топоров, в древнегреческих источниках существовал "довольно представительный круг слов, которыми, в частности, обозначалась и загадка"[13], так что ́άινιγμα определяла здесь не столько загадку как таковую, сколько "непрямое, часто
трагическое иносказание, пророчество о непроизносимом"[14]. Древнегреческое γριτφος (сеть) и латинское scirpus (тростниковая сеть), также имевшие значение "загадка", распространения не получили. Французское enigme, итальянское, испанское и португальское enigma, румынское и молдавское enigmă однозначно подтверждают близость и единство всех романских языков — в том числе и по отношению к загадке.
Германская группа дает несколько иную картину. Немецкое Rätsel происходит от raten — "гадать, советовать". Английское riddle проистекает, по одним утверждениям[15], от староанглийского rœdelse, по другим[16] — от древнеанглийского raedan, и связано с архаичным read, rad, redd, rede — "советовать". Интересно, что в славянских языках производные от того же общеиндоевропейского корня дали как бы два смысловых побега (например, в украинском "радити" – "советовать" и "радiти" — "радоваться). Между тем, английское riddle соотносится также с глаголом ride, ridden — "скакать верхом, быть сверху". Те же соответствия, видимо, остаются справедливыми для датского и нидерландского raadsel. "Однако при самом общем понимании семантических мотивировок германских слов для обозначения загадки детали, которые могли бы поставить окончательный акцент, остаются не исследованными с семантической точки зрения"[17], — это замечание В.Н.Топорова вполне справедливо, поскольку шведское gеta обнаруживает определённое и неожиданное родство с gе — "ходить, отправляться, проходить".
В балтийских языках этимология загадки как понятия не выяснена; во всяком случае попытка того же В.Н.Топорова возвести её к форме родительного падежа индоевропейского личного местоимения 1-го лица единственного числа выглядит скорее брошенной вскользь гипотезой, предположением, подкреплённым разве что авторитетом указанного автора. Присущие балтийским языкам названия данного жанра, латышское mikla и литовское miсklé здесь остаются пока "молчащими" понятиями.
Зато финно-угорские названия загадки отличаются замечательным разнообразием, весьма ценным, если учесть историю этих народов. Финское arvoitus — производное от глагола arvata, "отгадывать", но в конечном счете образовано от существительного arpa — "игральная кость, инструмент, используемый при гадании". "Загадать загадку" здесь asettaa jklle, а "отгадать загадку" — ratkaista. В венгерском языке слово "загадка" — rejtvũny соотносится с глаголом rejt — "прятать", а talatos kerdes, talany — с talal ("находить, встречать, попадать куда-либо").
Видимая многосмысленность — и взаимосвязь — названий загадки у разных народов, населяющих в настоящее время пространство от Атлантики до Урала, вынуждает признать, что феномен загадки развивался в русле некоторой мыслительной деятельности вообще, а более конкретно — в русле категории загадочного. Необходимое расширение приведенного выше (и очень ограниченного по объёму) этимологического материала, включая тюркские, иранские и монгольские названия загадки, вряд ли приведёт к пересмотру данного вывода.
1.Загадка и загадочное.
1.1. Категория загадочного.
Теория познания (гносеология) так или иначе исходит из различения и противоположенности между субъектом и объектом познания. Но такая противоположенность не может быть абсолютной, иначе необъяснимой и — более того — невероятной окажется их связь, их взаимодействие, т.е. само познание.
Отсюда следует наличие некоего субъект-объектного единства, кстати, данного каждому читателю этой работы в непосредственном ощущении его собственного бытия. Осознание такого двойственного единства способно принимать самые разные формы, о чём свидетелсьвует само существование истории философии как дисциплины.
Отмеченные в ней представления о субъектности, одушевлённости вещного, внешнего мира являются, возможно, наиболее древней, архаической и простой формой подобного осознания. Но здесь уже недалеко и до наивной, стихийной диалектики вывода, что объект познания существует лишь постольку, поскольку существует его субъект.
Исторические вариации данного вывода, начиная с религиозных преданий о сотворении мира, с "Cogito, ergo sum" Рене Декарта и завершая современными трактовками роли наблюдателя в квантовой механике, — все эти вариации нет возможности обсуждать или даже хотя бы обозначить их. Тем более нет возможности остановиться на производных обратной идеи — что субъект познания существует лишь постольку, поскольку существует его объект.
Очевидная зеркальность и, соответственно, равносильность этих идей позволяют, по состоянию на сегодня, развивать на их основе достаточно целостные гносеологические системы, выбор между которыми — по той же причине — происходит благодаря некоторым факторам, чаще всего — практически-социального характера, лишь переводимым в плоскость собственно гносеологии.
Имеет ли смысл уточнить приведенные выше положения, а именно: объект познания существует для субъекта лишь постольку, посокльку он субъектен, а субъект познания существует для объекта лишь постольку, поскольку он субъектен? Во всяком случае, подобное уточнение вызывает разнообразные и далеко идущие последствия.
Для настоящей работы важно, что в гносеологии подобного типа не только возникает представление о двух планах существования, объектном и субъектном, не только двойственная природа человека оказывается общей миру лишь в своей объектности, но и сам процесс познания предстаёт как субъективизация внешнего мира, как формирование собственного, личного мира-человека и мира-для-человека, если воспользоваться традиционной "кантовской" терминологией. Тем самым односторонность и недостаточность (а отсюда — и взаимосменяемость) предыдущих трактовок, по сути, снимаются — уже в гегелевской трактовке термина "снятие".Действительно, любой объект существует лишь постольку, поскольку он взаимодействует с другими объектами и проявляет в этих взаимодействиях присущие ему свойства. Можно сказать, что свойства объектов есть способ их взаимодействия между собой и даже способ их существования в объектном мире.
Объект, "вынутый" из подобного взаимодействия, есть уже абстракция, кантовская "вещь-в-себе" (или "вещь сама по себе", если воспользоваться трактовкой В.Ф.Асмуса[18] и его переводом "Критики чистого разума"[19], — принципиально непознаваемая, и потому (парадокс) полностью принадлежащая не объектному, а субъектному плану существования. В реальности ни один человек не сталкивался с таким объектом — как не сталкивался он, например, с математической точкой или с бесконечностью. Но эти мыслимые, идеальные объекты формируются в процессе объектного взаимодействия человека с миром, выражаются и передаются через некие реалии, будь то звуковые колебания воздушной среды, частицы краски на листе бумаги или световые лучи.
Равно и указанные реалии могут быть переведены в субъектный план существования только благодаря способности человека сохранять, преобразовывать и воспроизводить следы своего объектного взаимодействия с миром. Такое специфическое развитие общего всему объектному миру взаимодействия и взаимоизменяемости характеризуется именно как познание, которое можно назвать собственно человеческим, личностным, субъектным существованием.
Человеческое познание относительно постольку, поскольку человек познаёт мир, лишь взаимодействуя с ним, вернее — с иными объектами. Подобное взаимодействие неизбежно локально и темпорально, ограниченно в пространстве и во времени, но кроме того — ограничено как природными свойствами человека, так и уровнем освоенных человеческим обществом производительных сил. К примеру, зрением, как правило, не воспринимаются электромагнитные волны за пределами диапазона 3,9-7,9х1014 Гц, а слухом — соответственно, звуковые колебания частотой ниже 20 и выше 20000 Гц. Однако при помощи специальных инструментов человек получает возможность воспринимать те явления, которые находятся за пределами доступного ему через органы чувств видимого и слышимого спектра.
Точно так же взаимодействие с объектами, размеры которых на много порядков отличаются от размеров макроскопических тел, проникновение в структуры микро- и мегамира, — требуют от человека и общества "запуска" всё более длинных цепей взаимодействий, чтобы получить результат, доступный чувственному восприятию. И очевидно (слово, прямо указывающее на гносеологическое значение такого чувственного восприятия!), допустимая и достижимая длина таких цепей не бесконечна, существует некий предел, с переходом которого они "провисают" или даже "рвутся", так что любые попытки "выпрямить" эти цепи обречены на неудачу и ни к чему не ведут (ср. знаменитый "принцип неопределённости" В. фон Гейзенберга в квантовой физике). Но познаваемый мир есть мир, перетекающий в субъектное бытие, в познанное из непознанного,из того Ничто, которые никогда не наполняются и не могут быть наполнены никаким действительным содержанием, ибо последнее — атрибут познанного.
Процесс такого перетекания Ничто в Нечто трудно представить и ещё труднее осознать, если забыть о субъектности данного процесса, о том, что субъектно непознанное Ничто есть и объектное Нечто, взаимодействие с которым ещё не переведено в субъектный план бытия, не осознано как существующее, а, вопреки предположению Бертрана Рассела: "Откуда вам знать, что стулья за вашей спиной не превращаются в кенгуру?" — подобное не фиксировалось, во всяком случае — массово и повторяемо . Непознанному нет места и времени в познании — и всё же оно необходимо там присутствует: как всепорождающиее и всепоглощающее Ничто, как актуальное инобытие для человека. Но сам процесс познания исходит из познанного, отталкивается от него и воспроизводит его в каждом последующем поколении — с теми изменениями, которые привносятся деятельностью этого поколения. Ведь познание по определению не абстрактно, оно прежде всего — деятельность, познавательная, познающая деятельность, или, что то же самое, — деятельное, действенное познание.
Благодаря такой повторяемости действий (личных и — в особенности — совокупных) возникает возможность и необходимость предвидения последующих событий (т.е. выделенных сознанием моментоа взаимодействия с окружающими объектами) на основании событий предыдущих.
Немецкий исследователь Ф. Кликс выделял три "стратегии" подобного предвидения в структуре архаического мышления[20]. Как пример первой, исходящей из систематического наблюдения за пространственно-временными взаимосвязями.различных событий, приводится сообщение об индейцах племени "черноногих", которые довольно точно предсказывали приход весны по степени развития плода убитой самки бизона. Примером второй "стратегии", названной в переводе "умозаключением по аналогии на основании сходства", послужил факт использования одни из племён пигмеев Восточной Африки спорыньи, имеющей форму зуба, в качестве противоядия при укусе змеи. Наконец, третья, по Ф.Кликсу, "стратегия" заключается в организации необходимого события посредством специального магического действия (ритуала).
Предложенная классификация, несмотря на некоторую вольность критериев и формулировок (Ф.Кликс, например, совмещает в своей классификации способ действия и способы мышления, не выдерживает дистанции между собственно предсказанием и магией, главное для него — достижение результата в будущем), — интересна как попытка выделить основные механизмы человеческого познания при взаимодействии с внешним миром. Важно, что этот процесс изначально представляется исследователю не хаотичным, но в высшей степени организованным, целесообразным, сознательным. Согласно известной формулировке К.Маркса, самый плохой архитектор от самой лучшей пчелы отличается тем, что заранее имеет в голове план своей постройки[21].
Но такое моделирование действительности касается не только связей "человек—мир", оно перетекает и на связи между предметами и явлениями действительности. Все эти связи опосредуются факторами процессуальными, т.е. причинно-временными (континуальными) и причинно-следственными (каузальными), а также факторами ассоциативными (аналогическими): по сходству свойств и характеристик объектов и явлений для человека. Различие между ними заключается прежде всего в роли субъекта.
Выделение сходства между несколькими объектаами по их взаимодействию с человеком — не просто конкретный процесс, он превращает человека в центр всех происходящих событий, всё многообразие мира проходит через наши ощущения. Мы воспринимаем любой предмет или явление в их размерах, формах, запахах, цвете, движении, весе и т.д.
Призыв Сократа "Познай себя!", заимствованный у Дельфийского оракула, определяет чуть ли не весь познавательный цикл: не только результат его — формирование субъектного, личностного мира, но и начальный пункт познания — само бытие человека, личности как непосредственной данности, позволяющей запустить весь механизм аналогического мышления, от исходного разделения мира по принципу "Я" — "не-Я". Познавая мир, человек познаёт себя — и лишь познавая себя, он познаёт мир.
С некоторой погрешностью в качестве образца такого аналогического мышления можно привести достижения как раз античной культуры: от поэм Гомера до геометрии Эвклида. Даже логика Аристотеля выстроена вокруг аналогического, по сути, разделения: "А = А", "не-А ≠ А" (ср. "Я — не-Я"), т.е. основывается на ряде единичных, дискретных взаимодействий человека с миром — взаимодействий, объединяемых друг с другом на основе самого факта этих взаимодействий и проявляемых в них свойств.
В процессуальном мышлении дело обстоит иначе. Здесь человек уже абстрагируется, выделяется из действительности, он только наблюдает связи, осуществляемые между объектами. Соответственно, и взаимодействие субъекта с миром приобретает лишь опосредующее значение — человек здесь не важен в качестве объекта, тела, он как бы устраняется из общей картины мира, если только он сам не выступает объектом процессуального познания (в медицине, например) — важной, значимой выступает прежде всего его способность к наблюдению, к осознанию событий объектного мира.
Они, эти события происходят как бы в ином плане бытия, нежели тот, в котором существует субъект: наблюдатель, экспериментатор, толкователь, и только в таком отстранённом, опсредованном качестве — участник данных событий. Если сопоставить оба этих механизма мышления и результаты такого сопоставления выразить схематично, то получится следующая картина (сплошной линией обозначена выделенная, значимая, доминирующая связь; пунктирной — существующая, но не выделяемая специально, S — субъект, О — объект, О' — объект, представленный в сознании субъекта или познанный им объект. Тогда схема аналогического мышления будет выглядеть так:
О → S → О'
а процессуального — несколько иначе:
Можно видеть, что схема процессуального мышления более "зеркальна" по отношению к воспринимаемой нами реальности, поскольку ценностные связи в ней расположены симметрично по отношению к субъекту, однако такое "зеркало" с большей вероятностью способно оказаться "кривым", чем в схеме, присущей аналогическому мышлению. Опасность такого "кривого зеркала" заключена здесь в иначальной отстранённости субъекта от межобъектных взаимодействий внешнего мира. Связи субъекта с миром не рассматриваются при этом как значимые, а потому легко поддаются фальсификации, искажению — особенно при наличии авторитетного канала трансляции межобъектных связей, будь то социальный институт или случайный источник (ср. известную легенду об Иване Сусанине).
Напротив, поскольку в аналогическом мышлении ценностными, значимыми являются связи субъекта с миром, постольку фальсификации подвергаются прежде всего межсубъектные взаимодействия. Но подобная фальсификация всегда исходит из "очевидного": восхода и заката солнца, остановки движущихся тел и т.д., и т.п. Поэтому её устранение основывается на исправлении "точки зрения", на выборе такой позиции субъекта относительно взаимодействующих реалий внешнего мира, находясь на которой субъект может непротиворечиво совместить прежнюю "очевидность" с иной, новой.
Процессуальное мышление выступает следующим и более сложным механизмом самоотражения (сознания), фальсификация которого заключается в неявном, "неочевидном" усложнении или же, напротив, упрощении связей О—S—О'. Здесь принятая аналогия обретает уже пространственно-временные формы. Так, догадка Гераклита о родстве процессов горения и жизни была типичной аналогией на основании присущего этим процессам выделения тепла. Но лишь через две с половиной тысячи лет его догадка приобрела пространственно-временные и причинно-следственные подтверждения.
Самым высшим и сложным этапом познания в интересующем нас плане оказывается становление причинно-следственного, каузального мышления и его выделение из общего процессуального механизма, что исключает смешение каузальных отношений с пространственно-временными, континуальными (хорошо переданное латинской формулировкой "Post hoc non est propter hoc"[22]).
Тем самым предложенная в указанной работе Ф.Кликса классификация "стратегий мышления" приводит к различению двух гносеологических разновидностей непознанного: таинственного и загадочного. Выше уже говорилось о непознанном как актуальном инобытии вещного, объектного мира для познающего субъекта. Следуя принятым в настоящей работе представлениям, что вещный мир существует для субъекта лишь постольку, поскольку мир субъектен, инобытие непознанного мира предполагает — по аналогии! — также инобытие субъекта.
В последнем случае процесс познания оказывается, в конечном счёте, познанием субъекта, которому познаваемый объектный мир известен заранее или, более того, в котором этот мир и существует. Феномен познания, таким образом, легко включается в структуры религиозного характера, поскольку истинным субъектом-творцом выступает здесь вовсе не человек, которому отводится роль помощника-синергиста, но деятель, отличный от него по своей сущности.
Разумеется, ничего алогичного в подобном включении нет. Напротив, оно обусловлено самим характером человеческого познания. Те "плечи титанов", стоя на которых сэр Исаак Ньютон видел несколько дальше обычного смертного, и Бог, к которому этот великй учёный обратился в конце жизни, суть явления одного познавательного, гносеологического порядка. Если всё, познаваемое человеком, заранее имеет ответ, то существование Держателя Ответа, будь то Гений, Природа или Бог, предполагается само собой. Такая метафизическая гносеология, несомненно, справедлива для "познания познанного", т.е. для познания, происходящего в формах и направленного на явления, уже освоенные человеческим обществом. На гносеологии такого типа необходимо строится всякое обучение и всякое образование (или трансляция, если использовать терминологию М.К.Петрова и ориентироваться на социальные функции познания). "Трансляция — общение, направленное на социализацию входящих в жизнь поколений, на их уподобление старшим средствами существующих институтов и механизмов. От коммуникации трансляцию отличает режим осуществления — обучение, т.е. такая ситуация общения, в которой степень подобия сторон заведомо низка"[23].
Чем успешнее личность проходит подобное обучение, тем прочнее усваивает она стереотипы такого "отгадывающего" познания. А поскольку наличие ответа-отгадки свойственно миру познанному, очеловеченному и окультуренному, то и наделение сознанием гипотетического Держателя Ответа, переход от метафизики к идеализму и религии выглядит совершенно естественным и даже неизбежным. То есть одно из наиболее обших свойств познанного мира распространяется и на мир в целом. Нельзя не заметить здесь характерного проявления аналогического типа мышления.
В результате можно сказать, что загадочное и непознанное для аналогического мышления совпадают, что загадочное и есть непознанное в рамках аналогического мышления. Именно по этому признаку загадочное противостоит таинственному в категории непознанного. Тайну необходимо раскрыть, загадку — разгадать. Это совершенно разные действия.
Таинственное не предсуществует в своём инобытии человеческому познанию, но непрерывно возникает в процессе взаимодействия человека с миром. Здесь раскрытие тайны и постижение истины выводят человека словно бы на край бездны, где каждое последующее движение может оказаться и последним, где однажды установленные законы бытия способны измениться, а надёжная опора на освоенный и соразмерный личности мир оказывается принципиально невозможной. Но эта диалектическая гносеология в сознании каждого из нас подобна птенцу в метафизической скорлупе уже привычного, освоенного мира.
Тот же М.К. Петров описывал данную ситуацию так: "Трансмутация — все разновидности общения, в результате которого в социокоде, в одном из его фрагментов и в соответствующем канале трансляции появляются новые элементы знания или модифицируются наличные… В европейском понимании познания акцент сдвинут к открытиям и изобретениям, к "переднему краю" познания… Существенной, а в современной ситуации и весьма неприятной чертой трансмутации является производность её канонов, форм завершённого продукта, институтов, механизмов от исторически сложившихся и функционирующих каналов трансляции"[24].
Тем самым наблюдается производность не только "трансмутации" от "трансляции", познания непознанного от познания познанного, процессуального и континуального мышленя от аналогического, но и — в нашем случае — понимания непознанного как таинственного от понимания непознанного как загадочного. Повторяющиеся в столь различных аспектах отношения между механизмами и формами сознания не могут не иметь под собой единой основы, в качестве которой необходимо признать само бытие, а следовательно — и развитие человеческой общности, выступающей как совокупный субъект познания.
Отсюда следует, что в истории человеческих сообществ — вернее, в истории каждого такого сообщества, должен был существовать период, когда процессуальное мышление пробивало себе в сознании людей дорогу сквозь господствовавшее до того мышление аналогическое, причём этот процесс необходимо протекает в обществах любого уровня: не только архаических и примитивных, но также — и в объединяемых новом, ранее не задействованном основании. В своё время блестящий образец анализа подобного периода дал А.Ф. Лосев в своей "Диалектике мифа", где на примере советской идеологии показал, что любая возникающая общность немыслима без создания собственной "мифологии", знаменующей характерный именно для этой общности опыт непосредственного мировосприятия и дающей своего рода "мифологическую причинность" важных, значимых для данной общности явлений и событий, определяющих её аксиологию, её систему ценностей[25]. "Мифы рассказывались отнюдь не с развлекательными целями, хотя сюжеты и были очень интересны. Мифы были связаны с культами. Культы должны были воздействовать на божества, а божества — помогать людям. Разница между мифами и сказками есть, следовательно, разница социальной функции"[26], — писал, в частности, В.Я. Пропп. Ту же, по сути, точку зрения высказывал и такой специалист, как И.М. Тронский: "Миф, потерявший социальную значимость, становится сказкой"[27].
Недостаточность "мифологической" трактовки жанра загадки, которая отмечалась во Введении, теперь получает и необходимое ей гносеологическое измерение. Загадка произошла из мифа в том же смысле, в каком "человек произошёл от обезьяны" — они скорее троюродные братья, чем родитель и потомок. Загадка и миф произрастают из одного общего корня, из одного способа мышления, аналогического, но это и всё.
"Народные загадки сохранили для нас обломки старинного метафорического языка. Вся трудность и вся сущность загадки именно в том и заключается, что один предмет она старается изобразить через посредство другого, какою-либо стороною аналогического (выделено мной. — В.В.) с первым. Кажущееся бессмыслие загадок удивляет нас только потому, что мы не постигаем, что мог народ найти сходного между различными предметами, по-видимому, столь непохожими друг на друга; но как скоро мы поймём это уловленное народом сходство, то не будет ни странности, ни бессмыслия"[28], — высказывание А.Н. Афанасьева весьма характерно для представителей "мифологической школы" и подчёркивает несомненную связь жанра загадки с аналогическим типом мышления.
Однако ограничиться только признанием такой связи означало бы вернуться к состоянию науки во второй половине XIX века, более чем на сотню лет назад в исследовании поставленной проблемы. Сопоставив категорию загадочного в её взаимоотношениях с иными гнсеологическими категорями, мы установили, что феномен загадки может найти своё объяснение только в макроисторическом процессе развития человеческой культуры.
Рассматривая загадку как жанровое проявление загадочного, а через него — как "познания познанного", пусть даже проявление в высшей степени специфическое, мы неминуемо должны включить в рассмотрение праллельные явления в сфере "познания познанного": гадания, предсказания, оракулы, — в их собственно гносеологической функции.
1.2. Загадка и предсказание в истории культуры.
"Но испытаем, Атрид, и вопросим жреца иль пророка,
Или гадателя снов (и сны от Зевеса бывают):
Пусть нам поведают, чем раздражён Аполлон небожитель?
Так произнесши, воссел Ахиллес, и мгновенно от сонма
Калхас восстал Фесторид, верховный птицегадатель,
Мудрый, ведал он всё, что было, что есть и что будет,
И ахеян суда по морям проводил к Илиону,
Даром предвиденья, свыше ему вдохновлённым от Феба…"
(Гомер. "Илиада", пер. Н. Гнедича, песнь I, ст. 62-64, 68-72).
Уже гомеровский эпос и почти вся античная литература буквально пропитаны свидетельствами о гаданиях, предсказаниях, оракулах и прочих мантических ритуалах, которые сопровождают рождение, жизнь и смерть не только легендарных исторических деятелей, но практически каждого человека того времени. Сократ у Платона приводит оракул дельфийской Пифии, данный афиняну Херефонту как аргумент на судебном разбирательстве[29]. "Божество часто любит открывать в ночную пору людям грядущее, и не для того, чтобы они от страдания убереглись, — ибо не могут они совладать с тем, что судил рок, но для того, чтобы они с большей стойкостью переносили свои страдания"[30], — утверждал античный романист Ахилл Татий. "Спустя некоторое время после свадьбы Филиппу приснилось, что он запечатал чрево жены: на печати, как ему показалось, был вырезан лев. Все предсказатели истолковывали этот сон в том смысле, что Филиппц следует строже охранять свои супружеские права, но Аристиандр из Тельмесса сказал, что Олимпиада беременна, ибо ничего пустого не запечатывают, и что беременна она сыном, который будет обладать отважным, львиным характером"[31], — так описывает обстоятельства, которые предшествовали рождению Александра Македонского, Плутарх.
Замечательно здесь, помимо значения, которое придавалось Плутархом прорицанию такого события, наличие множества придворных "предсказателей", из которых лишь один оказался способным дать верное толкование сну-знамению. Бытие античного общества немыслимо без представлений о роке, судьбе, фатуме, которые существуют независимо от богов, но открыты для них, а через посылаемые богами знамения открываются и людям, чья задача — правильно понять эти послания богов.
В результате постоянные попытки предсказания будущего уже в самых ранних текстах предстают сложным социальным институтом, требующим специального ритуала, во многом общего для всего ареала античного мира: от Гибралтарова пролива на западе до Средней Азии на востоке. Данное обстоятельство заставляет предположить существование исторически длительного прериода становления такого института предсказаний, самыми яркими представителями которого можно считать Дельфийский оракул в Элладе и коллегию авгуров Вечного города.
Некоторые факты, свидетельствующие в пользу выдвинутой гипотезы, удаётся найти в истории древнеримского общества, поскольку оно, во-первых более близко нам по времени и лучше "документировано", чем, скажем, древнегреческое, шумерское или древнеегипетское, во-вторых, римская культура отличалась "постоянным стремлением соблюдать мир в богами (Pax deorum), дабы те не разгневались на какое-нибудь упущение или осквернение"[32]. В связи с этим "воле богов" а, соответственно, и её определению придавалось совершенно особое значение.
"Мы не превзошли ни испанцев своей численностью, ни галлов силой, ни пунийцев хитростью, ни греков искусствами, ни даже италийцев и латинян внутренним и врождённым чувством любви к родине, свойственном нашему племени и стране, но благочестием, почитанием богов и мудрой уверенностью в том, что всем руководит и управляет воля богов, мы превзошли все племена и народы"[33], — писал Марк Туллий Цицерон.
Благочестие (pietas), как отмечает Н.А. Машкин, составляло стержень социальной политики Октавиана Августа. Культ Августаа сопровождался даже введением в римский пантеон богини Pietas. Август "заботился о восстановлении и процветании старинных жреческих коллегий. Сам он был членом выдающихся жреческих объединений: авгуром, членом коллегии квиндецимвиров, хранивших Сивиллины книги, членом коллегии семи эпулонов, он был братом Арвальским, членом товарищества тициев и фециалов"[34], — всё это, видимо, призвано было закрепить в общественном сознании сакральный характер его власти.
Данные факты и свидетельства относятся уже к периоду конца Республики—начала Империи, когда традиционные верования римлян всё в большей степени заменялись внешним соблюдением религиозных обрядов. Однако они хорошо иллюстрируют стремление к Pax deorum, перешедшее впоследствии в известный синкретизм римской религии. Само основание Рима легенда связываает с проявлением "воли богов", ещё недостаточно известной в своих проявлениях заинтересованным сторонам, но главное — принимаемой именно в таком качестве.
Хрестоматийным в этом отношении является следующий текст Тита Ливия: "Рассказывают, что знамение — шесть коршунов — явилось ранее Рему, и оно уже было возвещено, как Ромулу явилось двойное число; и вот того и другого окружающая толпа приветствовала царём; одни требовали царской власти для своего вождя, основываясь на времени (появления птиц), другие — на числе их"[35].
Этот спор, завершившийся гибелью Рема, не мог бы произойти при наличии кодифицированного и институциализированного (например, аналогом коллегии авгуров) толкования предсказаний. Однако, такая коллегия достаточно быстро возникла (согласно традиции — уже в правление самого Ромула), а конституировалась как общественный институт при царе Нуме Помпилии, создавшем также коллегию понтификов. Цари-этруски упорядочили пантеон римских богов и внесли в повседневную жизнь римлян целый ряд ритуалов, гадательных в том числе. Среди них особое значение приобрели предсказания по внутренностям жертвенных животных, чем занимались жрецы-гаруспики. Едва ли не последним по времени этрусским вкладом в римскую культуру следует признать приобретение царём Тарквинием Гордым Сивиллиных книг и учреждение коллегии их хранителей (впоследствии — тех самых квиндецимвиров, одним из которых стал Октавиан Август).
В римском обществе было распространено и принято множество способов предсказания будущих событий. Здесь можно найти и подведомственные авгурам ауспиции по полёту птиц, особенно коршунов и воронов; по их крику; по форме, цвету, месту происхождения на небосводе и месту удара молнии; по шелесту листвы и поведению священных кур во время кормления. Здесь будут и частные гаруспиции по внутренностям, особенно печени, жертвенных животных, и по дыму костра. Здесь найдётся место и обыденному бросанию жребия (вспомним знаменитое изречение "Alea iacta est"[36] Гая Юлия Цезаря), и сложным астрологическим выкладкам, и толкованиям снов. Мы встретим здесь и ветхие пророчества прошлых лет, при случае извлекаемые жрецами из небытия, и хиромантию, и гадания на расплавленном воске, и, тем более, "простые" пророчества о будущем, в изобилии поставляемые различными "неконституированными" бродячими прорицателями, в том числе заведомыми шарлатанами.
Позднейшие времена значительно расширили этот список. Карты Таро и приспособленные к целям гадания игральные карты, гадания на цветах (по типу "любит—не любит"), венках пускаемых по течению реки, на игральных костях, по кофейной гуще и по хрустальному шару; крещенские гадания с зеркалом и без, вплоть до столоверчения спиритистов, — список можно расширить в несколько раз, получив как результат своеобрзную историю людских суеверий. При желании любое событие может быть поставлено в связь с неким будущим событием, причём эта картина не является чем-то, присущим исключительно тому культурному пространству, которое было сформировано благодаря походам Александра Македонского, римским завоеваниям и проповеди «авраамических» религий. Близкие античному року, фатуму, судьбе понятия можно найти, например, в китайской культуре. Знаменитое "дао", формулирование которого традиция связывает с именем легендарного мудреца Лао-цзы, лучше всего переводится как "путь изменений" и, согласно представлениям даосов, нарушение этого пути, предназначенного всему сущему, способно приносить только несчастья[37].
"Мин-цзы приводит следующую притчу: "Необходимо (всё время) работать, но не (рассчитывать на) непосредственный успех… Не надо быть таким, как один человек из царства Сун, который был удручён тем, что его всходы плохо растут, и стал их тянуть из земли. Много так потрудившись, он вернулся домой и сказал домашним: "Как я сегодня устал! Я помогал всходам расти". Его сын побежал смотреть на всходы, а они уже засохли. Мало кто в мире не "помогает" так расти"[38].
Сама "Книга Перемен" ("И Цзин") являет собой некоторую аналогию "Сивиллиным книгам" античного Рима. Её происхождение китайская традиция относит к древнейшим временам "совершенномудрых" предков. Из трактата "Шо Гуа", составной части "И Цзин", следует:
В древности совершенномудрые люди создавали Перемены,
Достигли сокровенного видения в духовной просветлённости
и породили тысячелистник.
(Обозначали) троицей Небо, двоицей землю и повели счисление.
Созерцали метаморфозы в инь-ян и установили символы
(триграммы и гексаграммы)…
Поэтому Перемены — обратные числа (предвидение грядущего)"[39].
В комментариях от автора этого перевода А.Е.Лукьянова специально указывается: "Совершенномудрые вместе с небом (природным естеством) выпестовали, вынянчили "И Цзин". Он появляется на свет как их живое дитя, несущее в себе все телесные, интеллектуальные и духовные концы и начала, то есть генетический код Поднебесной"[40].
Не случайно "И Цзин" признаётся исследователями в качестве постоянно действующей основы традиционного китайского миропонимания, от которой отталкиваются все ведущие мировоззренческие (философские) школы Китая. "К подвижному…построению "И Цзин" люди относятся как к живому воплощению извечных небесно-земных ритмов жизни Поднебесной, как к естественной закономерности и неизменной судьбе мин… В "И Цзин" люди видят такой физический, духовный и идеальный "агрегат", по которому они могут буквально математически высчитать грядущие события… Развёртывающаяся здесь поисковая мантика — вычисление физического, духовного, интеллектуального импульса, идущего от естественной судьбы, неотъемлема от естественной жизненной ориентации человека… Поэтому было бы напрасным делом искать в "И Цзин" мистические идеи, а в мантике или, точнее говоря, в математических счислениях видеть религиозную магию и т.п."[41].
Конечно, говоря здесь о "математических счислениях", А.Е. Лукьянов несколько "модернизировал" суть дела, поскольку в традиционной китайской культуре понятие числа не существовало изолированно, абстрактно, само по себе, но всегда находилось в некоей связи (корреляции) с иными объектами реального мира, обладало символическим смыслом. Зато своего рода симолическая алгебра, удачно названная Дж. Нидэмом "нумерологией", основывалась как раз на "коррелятивном" (в используемой здесь терминологии — аналогическом) мышлении и действительно пронизала весь китайский способ бытия.
Развитая А.Е. Кобзевым[42] аналогия между традционной для Китая "классификационной", "нумерологической" методологией, основанной на метаморфозах "И Цзин", с одной стороны, и пифагорейством, связанном в том числе с историей "Сивиллиных книг", с другой, — эта аналогия даёт возможность не только подтвердить общность форм человеческого мышления на путях ("дао") познания познанного, особенно на их ранних стадиях, но и выявить моменты их расхождения в различных культурах. Неизбывный по причине поверхностного качества, чтобы не сказать — "профанизма", интерес к пифагорейской традиции в современном мировоззрении то и дело даёт о себе знать[43].
В античном мире, с его борьбой между полисами и внутри них, пифагорейство приобрело характер замкнутой общности ("Пифагорейский союз"), что усиливало элементы эзотерической мистики внтури данного мировоззрения и почти автоматически вызывало необходимость как его политической экспансии, так и противодействия ей со стороны иных общественных сил. "Сперва пифагорейцы в Кротоне и в других городах "Великой Эллады" как будто бы пришли к власти. Но им противостояли некий Килон и его сторонники. Когда пифагорейцы собрались в Кротоне… на съезд, сторонники Килона окружили пифагорейцев и сожгли их"[44].
Вслед за этим пифагорейцы были изгнаны из других городов "Великой Греции", а Пифагорейский союз разгромлен именно как политическая организация. Впрочем, пифагорейская традиция, по свидетельству А.Ф. Лосева[45], нашла своё продолжение у Платона и неоплатоников вплоть до Ямвлиха и вполне растворилась только в христианском монашестве.
Напротив, в Китае типологически сходное "нумерологическое" мировоззрение ярко проявляло себя через ритуалы и при поддержке центральной власти широко распространилось в обществе. "Именно ритуал поклонения предкам, неотъемлемой частью которого являлся бу, позволил, по мнению Д. Китли, создать после покорения окружавших шанцев племён устойчивое государство. Уже тогда в китайской религии были использованы классификационные схемы, ставшие основой параллелизма макрокосма и микрокосма… Следует отметить изменение статуса ритуала: если раньше он мог проводиться только правителем, то теперь, распространившись на все формально "вассальные" государства, он доступен не только правителям, но и их сановникам… Ритуал бу предстаёт перед нами в следующем виде. При осуществлении ритуалов, требовавших гадания бу, а также в случае сомнения при принятии решения, правитель или высокопоставленный сановникотдавали особое распоряжение о таком гадании. Специальный чиновник-гадатель или историограф "сообщали черепахе" вопрос. Гадание совершалось в храме предков или (в походных условиях) его имитации. На прижжённом панцире появлялся знак. Гадатель интерпретировал этот знак… Предсказание чаще всего имело форму "багоприятно — неблагоприятно"[46]. Излишне говорить, что интерпретация данного ритуала сводила знаки на черепашьем панцире к триграммам и гексограммам "Книги Перемен".
Ту же мировоззренческую основу имело гадание на тысячелистнике ши, а также другие мантические ритуалы Древнего Китая. Сходные описания гадательных действий можно найти и для коренных народов Тропической Африки, Индостана, Америки, а также Австралии. Не случайно О.М. Фрейденберг делает следующий обобщающий вывод: "Условна для первобытного мышления и причинная связь… Причина одного явления лежала для него в явлении смежном. Так получалась цепь причин и следствий в виде круга, замкнутой линии, где каждый член ряда был и причиной, и следствием. Такая причинность вызывала представления об окружающем мире как о сменяющейся неизменности: для первобытного человека всё, что существует, казалось статичным, но эта статичность имела для него свои фазы"[47].
Здесь, в принятой нами терминологии, речь идёт как раз о континуальном мышлении (с его принципом post hoc ergo propter hoc[48]), а следовательно — о стадии типологически более поздней, чем стадия мифологическая. Гадания, предсказания в любом случае опираются на мифологию, т.е. на выявленную через сходство признаков связь и последовательность тех или иных значимых событий, выраженную в образной форме. Их генетическое родство с мифами частично проявлено в понятии ритуала, одной из разновидностей которого признаётся ритуал мантический, гадательный, в отличие от ритуала магического направленный не на изменение некоторых будщих, предстоящих явлений, но только на установление их возможности и качества для участников ритуала (впоследствии также — третьих лиц).
Исходя из общего положения о том, что более сложноорганизованные системы, как правило, возникают на основе более простых систем, которые предшествуют им во времени (что вовсе не исключает возможности вторичной редукции сложных систем в простые), — следует признать за гаданиями, предсказаниями, оракулами относительное историческое первенство по сравнению с загадками. Такое признание видимо противоречит высказанному выше утверждению, что познание непознанного производно от познания познанного. Действительно, будучи проявлением познания непознанного, гадания, предсказания и оракулы не должны бы предшествовать как форме "познания познанного". Однако такое умозаключение игнорирует факт определённой стадиальности, ступенчатости развития форм человеческого мышления. Мантические и магические ритуалы устанавливаются на стадии господства континуального мышления, в то время как загадка знаменует уже переход от континуального, пространственно-временнóго мышления к мышлению каузальному, причинно-следственному. Соответственно, гаданиям, предсказаниям и оракулам соответствуют иные феномены в сфере "познания познанного" — иные, чем загадка. Точно так же и загадка предшествует вовсе не оракулам и гаданиям, а другим явлениям в сфере "познания непознанного"[49].
В качестве аргумента, свидетельствующего в пользу этой гипотезы, можно привести заметное сужение ареала загадки сравнительно с ареалом предсказаний. У некоторых наиболее примитивных, архаичных племён и народностей загадки или вообще отсутствуют, или используются крайне редко. Характерна и высокая корреляция использования загадок с использованием пословиц. "В этой связи небезынтересно отметить, что в культурах, где отсутствуют или редко употребляются пословицы, не употребяютя или почти не употребляются и загадки. Так, индейцы Северной и Южной Америки относительно редко пользуются как пословицами, так и загадками. Интересно, существует ли такая культура, в которой был бы представлен только один из этих жанров?"[50] — пишет Алан Дандис.
Сформулированный английским учёным вопрос будет более подробно рассмотрен ниже[51]. Но факт редкого использования загадок в культурах Нового Света, широко применяющих институт гаданий и предсказаний, также хорошо согласуется с нашей гипотезой.
Ещё одним значимым свидетельством о месте загадки в типологической системе человеческого мышления следует признать известную легенду о Эдипе. Тесное переплетение элементов мифа, оракула, магического ритуала и загадки, сложившееся, возможно, в процессе фольклорного бытования легенды, делает данный сюжет весьма ценным для настоящей работы.
Легенда о Эдипе получила множество интерпретаций, в т.ч. и связанных с проблемой загадки. "В.Я.Пропп и О.М.Фрейденберг в софокловской трагической версии мифа о Эдипе раскрывали исходную фольклорную ситуацию загадывания-разгадывания загадки… Культурная антропология позволяет заглянуть и ещё дальше — в универсальные общечеловеческие корни загадок, связанных с инцестом, которые объединяют традиции Старого и Нового Света (в последнем другие виды загадок вообще отсутствуют, что подтверждает пережиточность типа данной)"[52], — указывает, например, Вяч. Вс. Иванов.
Действительно, в легенде о Эдипе присутствуют сюжетно значимые мотивы как инцеста, так и загадывания-разгадывания загадки. Более того, последнее по сюжету непосредственно предшествует первому и, в некотором смысле, является его причиной: ведь, не разгадай Эдип загадку Сфинкс, он бы не мог стать царём Фив и, соответственно, жениться на собственной матери. Однако зададимся вопросом, насколько оправданно выделение именно связи "загадка—инцест" — вне взаимоотношений данных моментов с прочими сюжетообразующими элементами легенды?
Вообще, поиски "следов" и/или "корней" каких-то явлений культуры всегда чреваты вольной, а чаще невольной "модернизацией" прошлого. Механизм подобной модернизации, который автор склонен называть "эффектом звёздного неба", детально разбирается при анализе происхождения загадки как жанра[53]. В культурологических исследованиях исключить этот механизм чрезвычайно сложно — раз уж в том или ином сюжете-созвездии соседствуют определённые мотивы-светила, то глубинная историческая связь между ними молчаливо подразумевается как факт.
При таком подходе — в частности, присущем методологии герменевтики — автор художественного (в том числе — коллективный автор фольклорного) произведения рассматривается исключительно в качестве светового луча, доносящего до нас это историческое единство. Его истинная, как полагаю, роль наблюдателя-преобразователя-создателя подобного единства искренне игнорируется "объективными" исследователями, особенно в случае отсутствия более ранних источников, дающих возможность сравнительного анализа. Между тем, "звёздное небо" культуры, в отличие от реального звёздного неба, намного более изменчиво и подвижно, его рисунок сильно зависит от возможностей и умения автора измыслить таковой со своей собственной точки зрения. Поэтому всегда следует задаваться вопросом о том, в какой мере занимается автор измышлением действительного прошлого, а в какой мере он измышляет прошлое, уже измышленное кем-то другим. Например, Софоклом.
Так, В.Н.Ярхо в академическом издании трагедий Софокла специально отмечает, что "греческая мифология не была собранием канонических назиданий,.. и драматическим поэтам это давало огромные преимущества: история, изображённая однажды Эсхилом, могла быть несколько десятилетий спустя совсем иначе воспроизведена Софоклом или Еврипидом"[54]. И далее, касаясь уже непосредственно "Царя Эдипа": "Миф, положенный в основу трагедии, известен уже из гомеровских поэм, где он, однако, не получает столь мрачного завершения: хотя Эдип по неведению и женился на собственной матери (эпос называет её Эпикастой), боги вскоре раскрыли тайну нечестивого брака. Эпикаста, не вынеся страшного разоблачения, повесилась, а Эдип остался властвовать в Фивах, не помышляя о самоослеплении (Од., XI, 271-280). В другом месте (Ил., XXIII, 679 сл.) сообщается о надгробных играх по павшему Эдипу — вероятно, он погиб, защищая свою землю и свои стада от врагов (ср. Гесиод, Труды и дни, 161-163)… Столь же увлекающий современных психоаналитиков инцестуозный брак сына с матерью появляется как драматический мотив не раньше, чем у афинских трагиков"[55].
Отсюда следует, что и Вяч. Вс. Иванов отдал дань подобной увлечённости, признав версию Софокла как незыблемую данность. Автору этой работы уже приходилось писать об "античной эстетической революции", подготовившей "этическую революцию христианства" несколько веков спустя. Несомненно, Софокл являлся одним из выдающихся деятелей этой эстетической революции. Его значение легче понять, если обратиться (с риском перегрузить раздел цитатами) к замечанию Х.-Л.Борхеса о старшем современнике Софокла, Эсхиле: "Он, как гласит червёртая глава "Поэтики" Аристотеля, "увеличил с одного до двух количество актёров". Известно, драма родилась из дионисийского культа; первоначально единственный актёр, "лицедей", возвышавшийся на котурнах, облачённый в чёрное или в пурпур, и в маске, укрупняющей лицо, делил сцену с двенадцатью другими людьми, хористами. Драма была одним из ритуалов культа и, как всякий ритуал, иногда рисковала впасть в самоповтор. Действительно, такое вполне могло случиться, однако в некий прекрасный день, лет за пятьсот до хоистианской эры, зачарованные и, вероятно, возмущённые афиняне (Виктор Гюго предположил последнее) столкнулись с непредусмотренным вторым актёром. Что же они решили, что почувствовали в тот далёкий весенний день в том медвяного цвета театре? Быть может, ни восторг и ни гнев; быть может, лишь ожидание чуда. В "Тускуланских беседах" сказано, что Эсхил вошёл в пифагорейский космос (о пифагореизме см. выше. — В.В.), однако мы так никогда и не узнаем, понял ли он хотя бы отчасти важность перехода от одного к двум, от единства к множественности — иными словами, к бесконечности. Со вторым актёром появились диалог и различные возможности взаимодействия между персонажами. Будь зритель ясновидящим, он предугадал бы, какое множество масок сменит этот актёр: и Гамлета, и Фауста, и Сехизмундо, и Пер Гюнта, и многих других, коих наши глаза покамест не различают"[56].
Использованные здесь Борхесом понятия единства (единичности? — В.В.) и множественности несколько анахроничны. У большинства архаических сообществ отмечается присутствие особого понятия двойственности, отличного как от единичности, так и от множественности. Самые примитивные из них используют счёт: "один, два, много". В ряде языков (включая и старославянский) существовало или существует соответственно, отдельное двойственное число глагола, dualis. Не исключение здесь и древнегреческий язык.
В данной связи позволим себе высказать парадоксальное — во всяком случае, на первый взгляд — утверждение, что диалог никогда не бывает "диалогичен", равно как и монолог никогда не ограничивается собственно монологом. Речь всегда обращена к некоему "другому", и этот "другой" подразумевается даже при монологе, тем более присутствует он (как "своё—другое" М.М. Бахтина) неким "третьим" в любом диалоге. Минимально необходимой фигурой речи, в таком случае, следует признавать не монолог и не диалог, а, если можно оперировать таким понятием, "триалог". Смысловое пространство (или пространство смыслов, семантическое пространство) в принципе не может быть ограничено или заполнено линиями диалога — оно требует замкнутой фигуры, простейшей среди которых является треугольник. Необходима опора линий (отрезков) диалога друг на друга, необходимы "три угла" для определения смыслового пространства речи.
В дионисийских ритуалах зрители необходимо выступали со-участниками ритуала, образуя, наряду с хором и "лицедеем", смысловое пространство, хотя и выделенное уже из реальной жизни, сакральное, но ещё не отделённое от неё. Точно так же существовали пространства (или, по М.М.Бахтину, "хронотопы" войны, полевых работ или ремесленничества, в которых люди не только со-переживали, но и со-участвовали.
Введение второго актёра Эсхилом сразу же этделило происходщее на сцене от происходящего в зале, создало театр как таковой.Зрители стали собственно зрителями, а не со-участниками культового действа, "смысловой треугольник" замкнулся между двумя актёрами и хором. Отчасти результатом стало и то, что хор, «коллективный актёр", принял на себя прежнюю "зрительскую роль", стал представителем общины в театральном действе, напоминая сидящим в зале на скамьях про их общность, их неразрывную связь друг с другом именно как членов единой общины (полиса). "Хор как раз и есть тот герой, вокруг которого вертится драма"[57], — заметил по этому поводу — разумеется, с известной долей преувеличения, С.К.Апт. Не случайно посещение театра было обязательным для всех граждан Афин, а нищим с этой целью выдавались даже специальные "театральные" деньги, зато женщинам и рабам посещение театра долгое время было запрещено. С этим же обстоятельством, видимо, связан и тот факт, что женские роли в античном театре исполнялись только мужчинами (сходное явление отмечается в истории также китайского и японского театров).
Наконец, введение третьего актёра Софоклом сделало смысловое пространство театрального действия однородным, изотропным, действие стало происходить исключительно между актёрами, а хор — становиться излишним элементом: то ли декорацией, то ли данью традиции. Сам Софокл, увеличив количество хористов до пятнадцати человек вместо традиционных двенадцати, возможно, пытался тем самым уравновесить третьего актёра — но любое количество не возмещало нового качества театра, который окончательно и бесповоротно стал принадлежать досугу и вымыслу как таковым.
Возвращаясь же к основной теме трагедии "Царь Эдип" как модели соотнесения мифа, оракула, магического ритуала и загадки, отметим следующие моменты. В этих узловых точках наблюдаются неочевидные соответствия текста трагедии с параллельным развитием событий, включаемых в легенду о Эдипе. За пределами трагедии остаётся первопричина: совращение Лаием, царём Фив и будущим отцом Эдипа, юного Хрисиппа, сына Пелопа (того самого царя Элиды, по имени которого получил своё название полуостров Пелопонесс). За это Пелоп проклял Лаия, то есть совершил магический ритуал. Такое же ритуально-магическое действие совершает в ст.268-275 трагедии сам Эдип, заклиная богов оказать помощь в его поисках убийцы Лаия.
И Эдип, и Иокаста в трагедии также упоминают о пророчествах — каждый о "своём": Иокасту оно вынудило отказаться от собственного сына, а Эдипа — покинуть Коринф из-за страха отцеубийства и кровосмешения.
Следом за проклятием появляется в легенде пророчество, данное Лаию Дельфийским оракулом:
"Лай Лабдакид, о счастливом рожденьи детей ты мечтаешь.
Дам тебе милого сына. Однако судьбы повеленьем
Гибель ты примешь от рук его. Знак этот подал
Зевс громовержец, проклятьям ужасным Пелопа внявший —
Так отомстить тот поклялся за кражу любимого сына"[58].
Мотив загадки и её разрешения возникает гораздо позже, чем был дан оракул, но гораздо раньше, чем выясняется достоверность оракула. Эдип разрешает загадку Сфинкс после убийства отца, но до женитьбы на матери. Загадка в драме неразрывно связана с прорицаниями, вплоть до того, что сами прорицания даются в форме загадок, причём форма эта воспринимается как сравнительно новая, во всяком случае — нетрадиционная. Так, прорицатель Тересий говорит Эдипу: "Родит тебя — и сгубит — этот день"; Эдип: "Опять загадка! Кто тебя поймёт?"; Тиресий: "Не ты ль загадок лучший разрешитель?"; Эдип: "Коришь меня за то, в чём я велик?"; Тиресий: "В твоём искусстве и твоя погибель"[59].
Сходная последовательность: свободное действие — маический ритуал — прорицание (включающее в процессе своей реализации загадывание—разгадывание загадки), — восстанавливается и на основании фрагментов трагедии Софокла "Прорицатели, или Полиид", в числе которых дошла до нас и разгадка Миносом загадки Аполлона (не забудем — покровителя оракула в Дельфах): что за существо трижды меняет свой цвет? Отгадка — тутовая ягода, шелковица:
"Вначале белый и цветущий колос
Увидишь ты, затем румянец нежный
Покроет полный шелковицы плод;
Египетская старость напоследок
Им овладеет…"[60]
Согласимся, что такое взаимоотношение мифа, ритуала, предсказания и загадки не противоречит высказанному ранее предположению о месте загадки в общекультурном контексте. Более того, оно может служить даже косвенным доказательством этого предположения. Теперь предстоит выяснить следующий вопрос: а каким образом загадка заняла данное место? — т.е. рассмотреть генезис (происхождение и развитие) жанра.
1.3. Генезис жанра
Происхождение загадки всегда трактовалось в соответствии со взглядами исследователей на сущность этого жанра. А взгляды их, несмотря на видимое разнообразие, имели характерную особенность, названную выше "эффектом звёздного неба". Чтобы понять сущность этого феномена, достаточно в ясную ночь запрокинуть голову – и открывшаяся вам как наблюдателю картина даст полное о нём представление. Самосветящиеся небесные тела будут увидены вами как различной величины и яркости блёстки на тёмном фоне, расположенные то поблизости, то поодаль друг от друга. Видимые группировки самых ярких звезд и прилегающие к ним области ночного небосвода издавна известны в качестве созвездий, с которыми связаны различные мифологические, религиозные и мистические представления, вплоть до паранаучных выводов о "сфере неподвижных звёзд" и т.д.
Между тем действительные размеры звёзд, их светимость и расстояния друг от друга имеют мало общего с той проекционной картиной, которая доступна нашему непосредственному наблюдению. Однако, чтобы выяснить это, астрономии понадобилось мощнейшее развитие инструментальных методов исследования, в т. ч. спектроскопических.
Точно так же, имея дело с «самосветящимися телами» народного творчества, к которым автор относит и загадку, исследователи принимали их очевидное соседство в памяти тех или иных "носителей фольклорной традиции" за действительную и вневременную близость в рамках единого жанра. Этот недостаток, впрочем, характерен для любой описательной дисциплины, этнографии в том числе.
В подобных условиях проблема происхождения загадки неминуемо оказывалась на периферии действительных исследовательских интересов. В самом деле, раз структурные, семантические и эстетические различия загадочных высказываний никак не соотносились с генезисом жанра; раз принципиальные свойства загадки представлялись неизменными, то и вопрос об исходной точке развития приобретал налёт схоластики, наподобие знаменитого вопроса о количестве чертей, способных уместиться на кончике иглы.
Тем не менее, совершенно игнорировать проблему генезиса загадки как жанра было невозможно, а потому на помощь исследователю призывались аналогические сближения той или иной степени остроумия. Так, оригинальная гипотеза о происхождении загадок из условной, "тайной" речи, связанной с охотничьей магией, была выдвинута В.П.Аникиным: "Совпадение "тематики" запретов и тем загадок не может быть случайным. Правда, может возникнуть возражение: круг словесных запретов столь широк, что должен был обязательно совпадать с кругом предметов и явлений, охваченных загадкой, — казалось бы, делать вывод о генетической связи табу и загадок нет оснований. Это возражение теряет свою силу перед лицом того факта, что, несмотря на широту, круг предметов в загадках строго очерчен в пределах каждой темы и совпадает со столь же ограниченной тематикой словесных запретов... Со всей очевидностью связь загадок с тайной речью отчётливо обнаруживается и в структуре их образов. В основах своих загадка воспроизводит структуру условных названий и обозначений,– образ строится на основе выделения одной какой-либо бросающейся в глаза черты..."[61].
Благодаря профессиональному авторитету В.П.Аникина и высокому уровню сделанных им обобщений, эта гипотеза до сих пор остается в поле зрения паремиологов, хотя осторожные сомнения в её корректности время от времени высказывались. Так, В.В.Митрофанова пишет: "В.П.Аникин... в тайной речи видит объяснение существования в загадках странных, не связанных со смыслом образов, замещающих предмет загадывания. Действительно, многие загадки, видимо, связаны с тайной речью и отделить их от описанных выше, где предмет замещения не связан ни с признаками загадываемого предмета, ни с тайной условной речью, не так просто. Но за то, что имели место оба явления, а не только связь с условной речью, говорит то обстоятельство, что в загадке про вышедшего на охоту и встретившего медведицу, непонятные слова замещают определённые понятия.., а в рассмотренных выше загадках про лучину, про звёзды такой замены нет"[62].
Можно сравнить гипотезу В.П.Аникина с идущей от В.В.Шкловского тенденцией, которая связывает происхождение загадки с иным кругом запретов: не охотничьих, но сексуальных, половых. Налицо общая методологическая основа: признание за "табу", "словесными запретами", "тайной речью" роли первоосновы загадочного высказывания. Поэтому рассмотрим, как соотносятся между собой эти понятия, употребляемые В.П.Аникиным в качестве синонимов.
Согласно общепринятым взглядам, "табу" – система запретов на совершение каких-либо действий, в т.ч. и на произнесение (употребление в речи) определённых слов. Как институт, регулирующий социальные отношения, табу относится к доклассовому обществу. Словесные запреты выступают как одна из разновидностей табу. Тайная речь имеет несколько иную природу, она может возникнуть и возникает лишь на основе достаточно развитых языковых структур, а следовательно — и структур социальных. Действительно, тайная (условная, иносказательная) речь как процесс особого, выделенного общения уже предполагает и существование общепринятой речи, и существование некоторой обособленной группы людей, коммуникация между членами которой — по любым возможным причинам — должна происходить иначе, нежели между членами "большой" общности, в которую данная группа входит.
Как свидетельствует, в частности, С.Я.Козлов, подобные социальные группы (тайные общества) "возникают уже на ранних стадиях разложения родового строя — как правило, в период перехода от матерински-родовой... к патрилинейной, патриархальной организации общества и сохраняются, в большинстве случаев модифицируясь и по форме, и по содержанию своей деятельности, на всех последующих этапах первобытной формации и даже позднее — в период формирования раннеклассовых обществ и государственности"[63]. Особый язык, используемый членами тайных обществ, — очень характерная, почти атрибутивная черта, вплоть до того, что женщины племени разговаривают между собой на отличном от "мужского" языке. И хотя С.Я.Козлов предупреждает, что "при всей распространённости тайных обществ называть этот институт универсальным нет оснований"[64], — всё же некую связь между феноменом "тайной речи" и утверждением патриархата обозначить можно.
Здесь гипотеза В.П.Аникина, вероятно, обретает своё социально-историческое "дно", т.е. тот временной уровень, ранее которого существование загадки выступает анахронизмом и требует иного объяснения. Конечно, табу и "тайная речь" — не одно и то же явление; табу явно древнее тайной речи, и загадка могла формироваться даже на основе преодоления табу — параллельно тайной речи и независимо от неё. Но, во-первых, это будет совсем иная гипотеза, чем высказанная В.П.Аникиным; а, во-вторых, табу вовсе не ориентировано на иносказание — оно лишь требует запрета на произнесение тех или иных слов. Почему этот запрет становится необходимым для первобытного (и не совсем) человека — более-менее понятно. Табу выступает необходимой частью развитого магического ритуала — и ритуала непрерывно длящегося. Остатки этого ритуального действа прослеживаются в старообрядческом запрете на произнесение слова "чёрт", и в лексике матерной брани, и — действительно — в охотничьей речи ("хозяин" вместо "медведь", которое само по себе является иносказанием). Но почему стало возможным и необходимым само преодоление табу — ситуационное или иносказательное?
Некоторую ясность вносит характер связи табу с тотемом: "Близость между человеком и его тотемом выражается прежде всего в запрете (табу) убивать и употреблять в пищу животное-тотем. Этот запрет (он существует повсеместно) не везде одинаков. У юго-восточных племён запрещено убивать свой тотем, но если он убит кем-то, человек не отказывается употреблять его в пищу. У племён Центральной Австралии, напротив, преобладает запрет употреблять в пищу тотем, но убить его не считается нарушением обычая. При исполнении же тотемических обрядов там не только разрешается, но и предписывается обычаем съесть немного мяса тотема для укрепления магической связи с ним. Считают, что совсем не есть мяса тотема так же плохо, как и слишком часто употреблять его в пищу: в том и в другом случае человек теряет связь с тотемом"[65].
Отсюда понятно, что табу не абсолютно, что возможность и необходимость его ситуационного преодоления заключаются именно в соотнесении табу с ритуалами, обрядами, а следовательно — с религиозно-магическими представлениями, выражением которых данные обряды являются. Характерно, что локальные словесные запреты у австралийских аборигенов существуют в зачаточной форме, зато условная речь, связанная с обрядом инициации, наблюдалась часто: "На посвящаемых налагались суровые запреты, ограничения в пище, посвящаемые не могли разговаривать и объяснялись знаками или особым условным языком, их изолировали от женской части племени"[66].
Австралийские аборигены находились как раз в процессе перехода от матрилинейного рода к патрилинейному, поэтому наблюдаемое у них состояние интересно сопоставить с картиной, следующей из гипотезы В.П.Аникина. Грубых несоответствий не наблюдается, но целый ряд признаков подлежит уточнению: 1) условный язык, "тайная речь" развивается не на основе тех или иных словесных запретов, а на основе инициационных обрядов, где существует запрет разговаривать вообще; 2) иносказания отсутствуют в обыденной речи, хотя используются сращения понятий (например, Змея–Радуга); 3) отсутствуют загадки как таковые.
В приведенной выше эволюционной последовательности форм "познания познанного" и "познания непознанного" австралийские племена оказываются стоящими на самой начальной, нижней из доступных наблюдению ступеней. У них присутствуют магические ритуалы, но нет как института предсказаний (мантика), так и загадки. Следовательно, тип их мышления можно в целом обозначить как континуальный на стадии "познания познанного" (магический ритуал есть самая сложная из доступных им форм познавательного действия).
Только в более развитых, сравнительно с австралийскими, обществах Полинезии возникает институт таура — жрецов-гадателей, и здесь же встречаются самые архаические формы загадок, так называемые загадко-пословицы, описанные, например, у самоанцев[67]. Сходную картину можно наблюдать и у американских индейцев, и у отсталых народностей Старого Света. Тем самым доступный этнографический материал не противоречит нашему предположению о последовательности форм познания (и мышления).
Возвращаясь к гипотезе В.П.Аникина, следует отметить, что существуют некоторые косвенные свидетельства против её безоговорочного принятия и помимо высказанных ранее. К ним относится и вопрос о декларированном совпадении круга словесных запретов с тематикой загадок (достоверно доказать или опровергнуть эту декларацию, особенно в диахронии, вообще не представляется возможным). Вызывает возражения и характеристика образной структуры загадок, данная В.П.Аникиным, согласно которой образ в загадке строится на основе выделения какой-либо одной черты загадываемого предмета. Наконец, исследования детского фольклора не обнаруживают никакой связи между загадками и условной речью у детей.
В целом же гипотеза, выдвинутая В.П.Аникиным, явилась важным этапом в изучении генезиса загадки, скорректировав и дополнив "эротематическую" гипотезу В.Б.Шкловского и его последователей. Более того, связав происхождение загадки с "табу" в его широком понимании, В.П.Аникин наметил дальнейшее направление для исследований этой проблемы. Недостатком его концепции, впрочем, исторически вполне извинительным, можно признать разве что излишнюю прямолинейность и упрощённость, как если бы происхождение человека в биологии напрямую выводили, скажем, от лягушки. Между тем необходимые промежуточные «звенья эволюции», приведшие к возникновению загадки, — например, такие, как мантический ритуал, оказались вне фронта исследований В.П.Аникина.
Качественно иной подход к происхождению загадки разработан отечественными структуралистами, прежде всего Г.Л.Пермяковым, в основе концепции которого лежит понимание паремий как особого рода языковых знаков ("клише"), обладающих при фразовой и сверхфразовой природе соотносимыми со словом характеристиками. "Паремии занимают промежуточное положение между единицами языка и фольклора, точнее: относятся и к языку, и к фольклору в одно и то же время... Сопоставляя слова, фразеологические обороты и паремии по существенным языковым признакам, нетрудно убедиться, что все они в значительной мере изоморфны друг другу. Как первые, так и вторые, и третьи представляют собой клише и используются в качестве знаков. И слова, и фразеологические обороты, и паремии могут обладать (или не обладать) мотивировкой своего общего значения, причем эта мотивировка может быть как прямой, так и образной. Внутри указанных трёх типов клише встречаются как синтетические, так и аналитические формы. Слова, фразеологические обороты и паремии в равной мере могут иметь омонимы, синонимы и антонимы. Все названные типы клише обладают функциональным сходством и могут выступать в речи в одинаковой или в сходной роли. И, наконец, все три наших типа клише... включены в систему синтагматико-парадигматических отношений языка, т.е. не только способны занимать то или иное место в линейном речевом ряду, но и обладают той или иной парадигмой, или определённым набором родственных форм для каждого данного места. В частности, для паремий помимо изменений по временам, лицам и числам, свойственных большинству незамкнутых клише, характерны логико-семиотическая парадигматика (система логических трансформаций) и парадигматика реалий"[68].
В этом ряду непосредственным "предшественником" паремий, загадок в том числе, выступают фразеологизмы, которые могут соответственно "свёртываться" и "развёртываться" друг в друга. Здесь Г.Л.Пермяков даже ссылается на замечание А.А.Потебни о возможности таких трансформаций между баснями (сказками) и пословицами (поговорками). Однако возможность логической трансформации не равнозначна генетической связи между фразеологизмами и паремиями, о чём свидетельствует следующая запись самого Г.Л.Пермякова: "Следует продумать вопрос о древности загадок. Может быть, не они являются косвенными (парадигматическими) формами пословичных изречений.., а наоборот: пословицы — косвенные (производные) формы от загадок. Возможно, к этому имеет отношение и то, что диалог (исторически) предшествует монологу"[69].
Эти сомнения исследователя не случайны. Сходство подблюдных песен, пословиц и других малых жанров фольклора с загадками порой оказывается дословным — и в данном отношении русский фольклор вовсе не исключение. Возможные объяснения данного феномена принципиально следующие:
1) загадка происходит от пословицы (и/или других жанров);
2) пословица (и/или другие жанры) происходят от загадки;
3) пословица и загадка имеют "общего предка";
4) пословица и загадка не имеют "общего предка", но сблизились, конвергировали в процессе своего фольклорного бытия;
5) данное сходство является случайным.
Последнее предположение, впрочем, для гуманитарных наук достаточно экстравагантно и приведено здесь больше "для полноты спектра", чем в качестве рабочей гипотезы. Из оставшихся необходимо сделать выбор, и существование у наиболее отсталых племён форм загадко-пословицы, а также действующая в фольклоре система логической трансформации паремий, — останавливают автора всё же на третьем из обозначенных выше объяснений. При этом гипотетический "общий предок" загадки и пословицы должен соответствовать, по крайней мере, двум условиям: а) быть семантически связан с мантическим ритуалом и б) структурно связан с фразеологизмами. На перекрёстке данных требований, не слишком оживлённом, обнаруживаются прежде всего приметы.
Классическая, описательная фольклористика давно выделила их, наряду с пословицами и загадками, в числе трёх основных типов "народных афоризмов". Г.Л.Пермяков, иследуя их структурные и семантические особенности, дополнил эту триаду ещё 21 типом. В основу его классификации были положены дихотомические ряды синтетичности-аналитичности высказываний, фразовости–сверхфразовости их построения, замкнутости-незамкнутости и монологичности–диалогичности таких высказываний (4! = 24), а также различие прагматических функций и мотивировок общего значения[70].
В результате загадка определялась им как синтетичная, сверхфразовая, диалогичная паремия с поучительной прагматической функцией; пословица — как синтетичная, фразовая, замкнутая паремия с моделирующей функцией; примета — как аналитичная, фразовая, замкнутая паремия с прогностической функцией. Для справки: синтетическими Г.Л.Пермяков называл паремии многозначные, допускающие расширительное толкование, а однозначные паремии — аналитическими. Если для пословиц их многозначность не подлежит сомнению, то многозначность загадок остаётся весьма проблематичной: она явно не однозначна, однако и многозначной её не назовёшь. Г.Л.Пермяков обходит эту сложность, причисляя загадку к синтетическим жанрам, но оговаривая, что отгадка может быть и аналитической.
Здесь преимущества принятой им методологии плавно перетекают в недостатки: отрицание специфики художественной информации, нечувствительность к изменениям качественным при гипертрофированном интересе к изменениям количественным. Поэтому переход приметы "Сильный дождь долго не идёт" в пословицу остается для Г.Л.Пермякова только фактом смены аналитического значения этого высказывания значением синтетическим, а прогностической функции — функцией моделирующей. Почему возникает возможность подобного перехода и благодаря чему он осуществляется — такие вопросы даже не ставятся, не говоря уже о том, чтобы связать их с проблемой происхождения загадки. Загадка для Г.Л.Пермякова остаётся косвенной формой пословицы, но и пословица может быть косвенной формой загадки, а в результате следует вывод: "Паремиологические типы можно даже трактовать как парадигматические формы одной и той же сущности (паремии вообще), у которой трансформированы те или иные стороны внешней или внутренней структуры"[71]. Кем трансформированы и с какой целью? А паремия вообще, по определению того же учёного, — "единица языка, приспособленная для обозначения типовых жизненных ситуаций, для формулирования и удобного запоминания разного рода житейских и логических правил, для прогнозирования будущего и ряда других прагматических языковых целей"[72].
Круг мысли очевидно замкнулся. "Паремия вообще", едва появившись, снова распалась на свои составные части: пословицы, загадки, приметы и ещё 21 тип, — в соответствии с "рядом других прагматических языковых целей". Между тем, в фольклоре среди высказываний, относимых к паремиям, бытуют не только поэтические произведения, подлежащие эстетическому анализу, но и характеристики условий обитания данного народа, его культуры и традиций. Последний тип высказываний, в отличие от собственно фольклорного, можно назвать этнографическим. Разницу между ними нельзя свести к понятиям однозначности-многозначности высказывания, как это предлагал Г.Л.Пермяков. Тем не менее, установленная им парадигматичность паремий и связанная с ней система логической трансформации действительно существуют и чрезвычайно важны для дальнейшего рассмотрения материала, хотя и в несколько иной интерпретации, более близкой к позиции А.Дандиса.
Приметы относятся именно к этнографическому слою фольклора. Высказывание "Сильный дождь долго не идёт", например, характеризует прежде всего среду обитания с умеренным климатом и невозможно для народов, живущих в зоне тропических муссонов с их сезонными осадками. Приметы выделяют в окружающей действительности часто повторяющиеся последовательности и/или взаимоотношения различных событий. Такие устойчивые выражения, конечно, могли формироваться и вне мантических ритуалов. Однако смысловая связь между ними на уровне пространственно-временных, континуальных форм процессуального мышления достаточно прочна и наглядна. "Он же сказал им в ответ: вечером вы говорите: "будет вёдро, потому что небо красно" и поутру: "сегодня ненастье, потому что небо багрово". Лицемеры! различать лице неба вы умеете, а знамений времен не можете?" (Мф., 16:2–3), – так Христос обращался к фарисеям и саддукеям. Здесь использование погодных примет (лица неба) напрямую связано с исполнителями ритуалов, жрецами–членами религиозных общин.
По сути, приведенное Г.Л.Пермяковым высказывание ближе к пословице, чем собственно к примете, поскольку носит общий характер. Примета должна бы звучать конкретнее, приблизительно так: "Если дождь сильный, то он идет недолго". "Пословичный" эффект обобщения достигается здесь устранением модальной связки "если,.. то", членящей данное высказывание на две части, причины и следствия. Тем самым логическая конструкция приметы видоизменяется. Действительно, семантический субъект первого высказывания, а именно "дождь", заменяется во втором иным субъектом: "сильный дождь", – более узким по значению и составным по форме. Кроме того, все высказывание переходит из условной модальности в объективную.
Сходный комплекс изменений наблюдается и в самоанской пословице, приведенной Дж.Миллером: "Только птица тули поёт своё имя", служащей "трансформом" загадки: "Что за человек хвалит сам себя?" Соответствующее пословице наблюдение: "птица тули поёт свое имя", – преобразуется в пословицу благодаря введению этого высказывания в более широкое смысловое поле при его формальном сужении количественным наречием "только" (больше никто не поёт своё имя). В любом случае пословица одновременно и "уточняет" примету, и соотносит её с иным явлением: ситуационным или собственно речевым (по структуралистской терминологии – с контекстом высказывания). Общий контекст паремий, переходных от приметы к пословице: "Подобно тому как А, то и (не) В".
Очевидна ориентация данных жанров на использование механизмов аналогического мышления, их мобилизацию для решения той или иной ситуационной проблемы (как известно, правильно обозначить проблему, поставить вопрос — означает наполовину решить их). Таким образом, с помощью паремий пословичного типа, воплощающих уже некоторые процессуальные отношения, эти глубинные механизмы сравнения помогают осознать сходство актуальной ситуации и ситуации, выраженной в пословице (или их противоположность).
Напротив, загадка демонстрирует как раз недостаточность механизмов аналогического мышления. То, что ворон чёрен, а бык рогат, вовсе не свидетельствует об истинности обратных утверждений: будто чёрен только ворон, а рогат только бык. И не случайно в "Лингвистическом энциклопедическом словаре" нашлось место для статей о поговорке и пословице, но не нашлось места для статьи о загадке. Тем не менее "шесть из шестнадцати загадок, цитируемых по рукописному альманаху XV в. "Adevineaux amoreux", основаны на народном поверье, что все мельники – воры"[73] (сообщение Дж.Хассела).
Приметы (поверья) прямо называются здесь в качестве одного из важнейших источников загадки (и, как мы предполагаем, пословицы). Конечно, данный факт как и ряд других, ещё не приведён в систему, но формы предзагадки и предпословицы полностью вписываются в указанную выше структуру: "Подобно тому как А, то и (не) В". Примером может служить "байли" народа овамбо, проживающего на севере Намибии и юге Анголы:
"Шип дерева омуговле пронзил ногу слона.
Гриб проткнул склон термитника".
Отгадка — вторая строка, а общий смысл загадко-пословицы: "Родить ребенка нелегко"[74], — приведенная М.Кууси; турецкие пословица "Апрельский дождь – золотая повозка с серебряными спицами" и соответствующая ей загадка: "Золотая повозка с серебряными спицами" ( отгадка — апрельский дождь)[75], — отмеченные М.Башгёзом; финская загадка "Дятел, вытаскивающий червяка" (Ребенок, сосущий грудь)[76], — выделенная Э.Кёнгэс-Маранда.
Конечно, эти примеры не вполне равноценны. Байли демонстрируют полное единство и взаимозаменяемость своих частей, в финской загадке образная часть и отгадка, хотя сопоставимы друг с другом по сложности, но их связь уже однозначна и однонаправленна; в турецком фольклоре загадка и пословица уже чётко отделены друг от друга, но использование загадки ещё не накладывает запрет на применение соответствующей пословицы, и наоборот. Между тем подобный запрет существует в финском фольклоре, как показывает Э.Кёнгэс-Маранда:
"Пирог, с виду приятный, набит соломенной сечкой".
(Плохой человек).
Образную часть этой загадки часто используют в современном финском языке, но всегда в форме пословицы: "Пироги с виду хороши, а внутри – соломенная сечка"[77]. Подобные отношения дополнительной дистрибуции существуют и между русскими загадкой и пословицей.
Например, констатация факта "Нельзя укусить собственный локоть" превращается в известный фразеологизм "Локти кусать", и в пословицу "Близок локоть, да не укусишь", и в загадку "Близко, да не укусишь" (Локоть). Между тем объективное бытование пословицы и производного от неё фразеологизма-поговорки могло совершенно вытеснить из обихода загадку, построенную на использовании того же образа, или вообще «не дать ей родиться». И напротив, закрепление формы загадки "Чего глазами не увидишь?" (Своего затылка) лишь частично, на уровне реалий, изменило соответствующую паремию пословичного типа: "Не видать, как собственных ушей". Несомненно, имеют общее — и достаточно позднее — происхождение загадка "Чего вокруг дома не обнесешь?" (Воды в решете), фразеологизм "Вода в решете" и пословица "Воды решетом не наносишь".
Теоретически, любое пословичное высказывание из "русского паремиологического фонда", определённого Г.Л.Пермяковым, может быть трансформировано в соответствующую загадку, но практически ни одно не имеет реальных вариантов таких трансформов. Возможно, наличие полного спектра паремий в парадигме свидетельствует как раз об относительной новизне используемого в них образа и ещё не завершённом процессе дополнительной дистрибуции внутри данной парадигмы со слабым членом ряда — загадкой, и сильным — пословицей (поговоркой)?
"Разрушенные, утратившие отгадку загадки встречаются иногда в сборниках пословиц. И.А.Худяков писал: "Из всех частей эпоса загадка ближе всего подходит по своему небольшому объёму к пословице. Некоторые загадки представляют переход от пословицы к загадке и поэтому могут быть отнесены и к тем, и к другим". Естественно, что среди пословиц мы узнаем только те загадки, которые известны по записям XIX века. Никаких исчезнувших к XIX веку вариантов оттуда извлечь не удается, так как загадки в сборниках пословиц разрушены, в них исчезли отгадки... Может быть и обратное движение: неясный смысл пословицы стремились расшифровать, и разъяснение образовывало отгадку"[78], — отмечала В.В.Митрофанова.
По сравнению со структурой загадко-пословицы (предзагадки и предпословицы) в переходных формах, приведенных выше, отмечаются следующие изменения: в пословицах часть В постепенно сворачивается и теряет свою речевую определённость, перестаёт быть знаком речевой ситуации, не произносится — и, как следствие, часть А усиливает свои образные, эстетические черты, становится применимой к другим, внеречевым ситуациям. Полное воплощение данного процесса достигается в поговорках и фразеологизмах. Напротив, загадка сохраняет часть В в качестве отгадки, её характер знака речевой ситуации только упрощается (в конце концов до словосочетания или слова-отгадки), но часть А приобретает специфически "загадочные" черты, — как бы выворачивается наизнанку, сигнализируя тем самым о содержащейся "внутри" неё отгадке.
В результате ненулевые шансы получает попытка построить паремиологическое "родовое древо" с различными вариантами паремий пословичного и загадочного типов, возникавших на основе развития архаической загадко-пословицы в паремиологическую парадигму с присущими ей отношениями дополнительной дистрибуции.
Завершая первую главу настоящей работы, автор считает целесообразным выделить основные моменты изложенной выше концепции в краткое резюме. Итак, загадка рассматривается здесь как одна из простейших реализаций категории загадочного, "познания познанного" – на уровне перехода от континуального, пространственно-временного типа человеческого мышления к причинно-следственному, каузальному.
Появлению загадки предшествует широкое распространение мантических ритуалов, "сниженные" или простонародные эквиваленты которых, приметы, оказываются близки к архаическим фольклорным паремиям даже структурно. Кстати, эту связь отмечал ещё А.Н.Афанасьев — разумеется, давая ей интерпретацию с иных позиций: "Подобно тому, как старинное метафорическое выражение обратилось в загадку, так эти религиозные обряды перешли в народные гадания и ворожбу"[79].
Кристаллизация жанра загадки из исходной "загадко-пословицы" явно не была одномоментной, а представляла собой исторически длительный процесс, следы которого сохраняются — с разной степенью выраженности — практически во всех фольклорных традициях. Характерным сигналом окончания данного процесса являются отношения дополнительной дистрибуции образной части, возникающие между собственно загадкой и паремиями пословичного типа.
Поскольку подобные отношения свидетельствуют о длительном и опосредованном взаимодействии загадок с другими жанрами фольклора, то именно этой теме будет посвящена следующая глава настоящей работы. Естественно, что такие внутрифольклорные взаимодействия протекали в рамках разных культурных традиций не идентично, и результатом их становились определенные несоответствия в объёме и структуре фонда народных загадок.
2. Загадка как жанр фольклора.
2.1. Загадка и фольклор
2.2. Диалог в загадке.
Загадка — единственный жанр фольклора, который в принципе исчерпывается диалогом, более того, диалогом реальным, а не наработанным многоголосием типа: "— А мы просо сеяли, сеяли! — А мы просо вытопчем, вытопчем!", где формы диалога служат лишь оболочкой и поводом для действительного, в данном случае – обрядового, общения. Еще дальше от присущего загадке диалога стоят былинно-сказочные варианты, где прямая речь персонажей заключена в надёжную броню оборотов: "И сказал Иван зычным голосом: "....." Отвечает ему Идолище поганое: "....."
Загадка откровенно диалогична, она попросту не существует без отгадки. Но реальность этого диалога, как правило, ставится под сомнение исследователями, подчеркивающими как раз ритуальное значение загадки. Так, Т.Я.Елизаренкова и В.Н.Топоров описывают ведийскую brachmodya как "словесную часть ритуала, построенную в виде вопросов и ответов, соответствующих загадке и отгадке на тему структуры космоса... в загадках такого типа происходит своеобразное "просвечивание" элементов космического уровня через элементы быта и наоборот..."[80] Сходная мысль несколько ранее высказывалась О.А.Смирницкой: "Предрасположенность древнегерманской поэзии к затейливым иносказаниям находит яркое выражение в таких перифрастических обозначениях предмета как кеннинги, с которыми иногда сравнивают загадки. Их не раз сравнивали и с гномическими стихами. Подобно последним, загадка охватывает самый широкий круг тем, спускаясь с небес к предметам низменным и выражая представление средневекового человека о мировом порядке"[81].
Иными словами, загадка и ее отгадка переводятся на уровень "условного диалога" (определение А.К.Оглоблина[82]), для которого важна не столько острота мышления, сколько объём памяти, позволяющий применительно к ситуации однозначно ответить на особым образом сформулированную задачу, по типу: "Дважды два? – Четыре". Так, античные греки могли наизусть продолжить стих из "Илиады", а совсем недавно японские гейши – классические танка и хайку (хокку). "Строго говоря, загадку надо знать ещё до того, как она предлагается отгадчику"[83],– делают вывод Т.Я.Елизаренкова и В.Н.Топоров.
"Смысл загадок состоял скорее в самом загадывании, чем в отгадывании, отгадывать было необязательно. Загадывать загадку всем известную неинтересно, а неизвестную или только что придуманную отгадывать очень трудно"[84],– пишет В.И.Белов, характеризуя современное бытие загадки в фольклоре русского Севера. Подобных свидетельств можно привести ещё немало. В то же время существует иная точка зрения, согласно которой диалог в загадке является спонтанным и близким к непосредственному, живому общению. Помимо отмечаемых фольклористами рудиментов ритуальных процедур определения "свой-чужой" и "старший-младший", существует основной канал коммуникации: подтверждающий и утверждающий общность участников загадки-диалога.
Во-первых, одна и та же загадка может иметь несколько отгадок. Во-вторых, помимо "общеизвестных" загадок и, как правило, после них задаются загадки более редкие, разгадать которые действительно сложно, если не использовать принципы отгадывания, реализованные в предыдущих загадках. Умение загадывать загадки в том и состоит, чтобы подвести слушателей-отгадчиков к пониманию этих принципов, достаточно разнообразных, и к распознаванию их реализации в любой, даже самой сложной, загадке. Неверные, неправильные ответы в подобной ситуации общения не только рассматриваются как необходимые этапы на пути к "радости узнавания", но и поощряются как постоянные стимулы движения к этой цели для всех участников данного диалога. "Загадки загадывались в определенное время года, зимой, когда закончены работы, природа спит. Загадывал старший, строго придерживаясь тематики (это облегчало отгадывание)"[85],– свидетельствует, например, В.В.Митрофанова.
Сравним эту ситуацию с описанной В.П.Мазуриком[86] ситуацией распространения японских головоломок "кангаэмоно", которые отличаются от загадок "надзо" "...только намёком, помещавшимся в верхней части листа. Обычно нищие монахи разносили такие листки по домам в первой половине дня, а вечером приходили снова и собирали деньги за ответы с тех, кто не нашел решения".
Здесь мы сталкиваемся с той же нехарактерной для ритуального общения включённостью загадки в реальное время, и даже цель общения посредством "кангаэмоно" — получение денег — со стороны загадывающего оказывается недопустимо сниженной для ритуала. Поэтому проблему диалога в загадке нельзя считать решённой окончательно. Необходимо выяснить, что же осталось в загадке от более ранних — несомненно, связанных с ритуалами — жанров, и в чём возможное отличие предусмотренного загадкой диалога от обрядового общения.
Если рассматривать загадку в качестве художественного произведения, а именно такой принцип лежит в основе данной работы, то диалог загадки выступает диалогом прежде всего художественным, эстетическим. И здесь неминуемо использование концепции М.М.Бахтина, который впервые обратил внимание на то неочевидное обстоятельство, что любое произведение искусства (литературы в особенности) выступает неким высказыванием, сообщением (текстом) не только в смысле передачи информации, но со-общением в смысле предельном: взаимного общения с другим. Причем это другое может быть сколь угодно далёким от непосредственно данного высказывания (контекст) и сколь угодно близким к нему, даже включённым в само высказывание (подтекст).
В концепции М.М.Бахтина любой текст, любое сообщение предполагают бесконечное множество ответов на себя — и сами являются ответом на бесконечное множество иных высказываний. Эта потенциальная возможность, установленная М.М.Бахтиным ("большое время смыслов"), широко используется в современной литературной теории и на практике. Но тем самым общение людей посредством текстов уступает место общению самих текстов, а понятия адресата или автора сообщения становятся в высшей степени неопределёнными.
Дело в том, что при таком методологическом подходе любое высказывание оказывается равно идентичным другим текстам и равно неидентичным самому себе. Обе эти, видимо противоположные, возможности достаточно полно описаны Х.-Л.Борхесом соответственно в рассказах "Вавилонская библиотека" и "Пьер Менар, автор Дон Кихота". Неизбежным (и парадоксальным) следствием расширения границ диалога в бесконечность становится изолированность художественного высказывания, его, если угодно, атомизация.
Действительно, если высказывание не обусловлено никаким другим близким по времени и месту высказыванием и не предполагает столь же конкретного ответа, существуя только в "большом времени смыслов", но не существуя в "малом", то оно являет собой именно монолог, для превращения которого в диалог может не хватить и всей человеческой жизни, и даже всего времени существования Вселенной. Против такого монолога, как вырожденной формы в искусстве, со всей определённостью выступал и сам Бахтин.
Более того, "общение текстов" может привести и приводит к потере специфики художественного высказывания вообще, ибо разрушение пространственно-временных границ высказывания затрагивает и выделенный М.М.Бахтиным "хронотоп", т.е. время и место, занимаемые по отношению к данному сообщению его автором. Поскольку данная интерпретация термина "хронотоп" достаточно далека от общепринятой, постараемся обосновать ее отдельно.
В работах М.М.Бахтина встречается несколько определений хронотопа, призванных сделать это понятие объёмным (а следовательно — и многозначным). "Хронотоп — существенная взаимосвязь временных и пространственных отношений, художественно освоенных в литературе. Хронотоп — формально-содержательная категория литературы, выражающая неразрывность пространства и времени. Художественный хронотоп характеризуется слиянием пространственных и временных примет в осмысленном и конкретном целом"[87].
Это, так сказать, определения общетеоретического характера. В них важен момент художественного представления и осмысления в тексте пространственно-временных свойств действительности. Выделим и подчеркнём: именно художественного, а не какого-либо иного. Художественность полагается здесь особым качеством любого продукта эстетической деятельности, в данном случае — литературного произведения. Но у М.М.Бахтина — иное употребление понятия "художественное". Эстетика для него — прежде всего наука, теория, — а всё, что касается практики, т.е. непосредственной эстетической деятельности как таковой, ни в коем случае не может называться в концепции Бахтина "эстетическим" — только "художественным". В настоящей же работе эстетика понимается не только как наука об особой сфере человеческой деятельности, но и сама эта сфера. Отсюда термин Бахтина "художественное осмысление" следует признать равнозначным термину "эстетическое осмысление" в принятой здесь понятийной системе координат.
Но что значит — художественно, эстетически осмыслить действительность, в том числе — присущие ей пространственно-временные отношения? С предлагаемой точки зрения эстетика выступает одной из форм человеческого познания, человеческой деятельности, которая, в отличие от прочих форм, охватывает сферу выделенных субъект-объектных отношений. Т. е. применительно к проблеме хронотопа как эстетического понятия, это как раз означает выделение существенных, значимых для автора художественного произведения пространственно-временных характеристик действительности. В узком смысле такое выделение реализуется в произведении как модель пространства-времени. В более широком смысле оно предстает перед нами уже как позиция, занимаемая данным автором в реальном времени и пространстве по отношению к предложенной им модели.
Иными словами, автор творит собственный мир, на котором так или иначе лежит печать его собственного мировосприятия и миропонимания, в том числе — восприятия и понимания времени и пространства. Тем самым он, автор, определяет и собственное место в мире, о котором мы, как читатели, можем судить прежде всего по созданной им модели или образу — эстетическому объекту, а также по тому положению, которое он, автор, занимает относительно этой модели.
Через посредство произведения-высказывания автор занимает место и относительно других произведений, а также их авторов. В результате хронотоп задаёт границы и даже адреса со-общения, он действительно о-граничивает диалог, не позволяет речи утекать в бесконечность, привязывает её к определенному пониманию мира. Сходство выделяемых хронотопом пространственно-временных отношений выступает жанрообразующим признаком.
Для Бахтина формы хронотопа исторически изменчивы и зависят, во-первых, от реальных социокультурных условий, а, во-вторых, от ранее сложившихся форм хронотопа. "В пределах одного произведения и в пределах творчества одного автора мы наблюдаем множество хронотопов и сложные, специфические для данного произведения или автора взаимоотношения между ними, причём обычно один из них является объемлющим или доминантным... Общий характер этих взаимоотношений является диалогическим... Но этот диалог не может войти в изображённый в произведении мир... Он (этот диалог) входит в мир автора, исполнителя и в мир слушателей и читателей... В том совершенно реальном времени-пространстве, где звучит произведение, где находится рукопись или книга, находится и реальный человек, создавший звуковую речь, рукопись или книгу, находятся и реальные люди, слушающие и читающие текст"[88].
Итак, в произведении существует не единственный хронотоп, оно всегда несёт в себе как следы предшествующих, так и, возможно, зачатки будущих хронотопов. Но, тем не менее, определяет произведение некий объемлющий, доминантный хронотоп. Он-то и задаёт форму диалога между автором и читателем (слушателем).
Если подходить к хронотопу загадки a priori[89], то в силу видимой простоты самой загадки (не только структурной) и в силу её фольклорной древности, т.е. и системно, и диахронически, — в загадке, казалось бы, неоткуда взяться сколь-нибудь сложным и даже разнообразным пространственно-временным отношениям. Действительно, самый распространённый вариант русской загадки связан с вещами, объектами, явлениями реально существующими, — актуальными, если можно так выразиться. "Здесь и сейчас" в такой загадке равносильно "везде и всегда".
"Маленький, удаленький, сквозь землю прошёл, красну шапочку нашёл"– гриб: ныне, и присно, и во веки веков. Уже прошёл, уже нашёл, так и стоит в красной шапочке: маленький да удаленький. Или ещё пример: "Красна девица в темнице, а коса на улице", — поди, выдерни её, эту морковку из загадки! Так ей, красной девице и сидеть в темнице, пока не окончится на земле сей язык русский, или, благодаря новым технологиям, огороды на гидропонику переведут. Зато у якутов или зулусов, народов скотоводческих, подобной загадки нет и быть не может. Хотя о саранке и бататах что-то в том же духе наверняка присутствует. Загадка обязана быть наглядной. Исчезновение объекта загадки из реальности уничтожает саму загадку, выводит её из фольклорного оборота. Во многом поэтому традиционная русская загадка уже к концу XIX века, если, можно так сказать, начала таять подобно отколовшемуся от ледового щита айсбергу. В настоящее время общеупотребительный массив русской загадки составляет от силы десяток–другой высказываний, включая сюда новообразования типа "Висит груша, нельзя скушать" (электрическая лампа накаливания, первоначальная отгадка – пчелиный рой). Но кто из городских детей, да и сельских тоже, видел сейчас вживе пчелиный рой? Впрочем, эволюция загадки как жанра специально рассматривается в главе IV настоящей работы.
Здесь же отметим лишь то, как связана передача иных, более сложных, нежели описанные выше, временных отношений с другими жанрами фольклора и литературы.
Вот, к примеру, следующая загадка: "Был я на копанце, был я на хлопанце, был на пожаре, был на базаре; молод был — людей кормил, стар стал — пеленаться стал, умер — мои кости негодящие бросили в ямку, и собаки не гложут". Эта развёрнутая биография обычного глиняного горшка даёт чёткое движение во времени: от прошлого времени несовершенного вида (бил, кормил) к прошлому времени совершенного вида (стал, умер, бросили) и далее – к настоящему (не гложут). Замечательно также появление здесь "Я" – первого лица, т.е. загадка задаётся как бы от имени объекта самой загадки, выступающего одновременно и как субъект её. Тем самым проблема "Что это?", характерная для большинства загадок, неявно подменяется проблемой "Кто это говорит?". Неодушевлённый объект получает признаки одушевлённости, причём сообщает о себе даже подробности "жизни после смерти". В данном случае простейший хронотоп загадки, описанный выше, проявляется дважды, если не трижды: "молод был – людей кормил, стар стал – пеленаться стал" и "кости... собаки не гложут". Но эти проявления объемлются иной моделью пространственно-временных отношений, загадке как таковой не свойственной. Именно в этих, ещё "не-загадочных", строках задаётся и первое лицо действия, и рифма, и другие способы организации высказывания, реализованные в фабуле данной загадки.
Тем самым приведенный выше текст высказывания представляет собой произведение синтетическое, в котором собственно загадка существует в ритмическом окружении другого фольклорного жанра – припевки, и как бы растворена в ней. Сравните:
"Ладушки-ладушки!
Где были? — У бабушки.
А что ели? — Кашку.
А что пили? — Бражку.
Кашка сладенька,
Бражка пьяненька,
Бабушка добренька.
Дедушка недобр —
Толокушкой в лоб!"
Сходный синтез жанров, но под влиянием уже не народной, а "правильной", книжной поэзии, можно заметить в известной загадке: "Хожу на голове, хотя и на ногах, хожу я босиком, хотя и в сапогах" (отгадка — гвоздь в сапоге). Снова объект загадки обретает как бы свой голос, но заданные этим высказыванием пространственно-временные отношения не совпадают с собственно загадочными в несколько ином плане: "здесь и сейчас" уже не равносильны "везде и всегда". Благодаря использованию формы 1-го лица настоящего времени глагола (хожу) эти отношения остаются дискретными и локальными: "хожу", но могу и не ходить. Именно такое, опосредованное глагольной формой, введение субъекта указывает на связь данной загадки с литературой (ср. пушкинское "Гляжу как безумный на черную шаль"). Кроме того, трехстопный ямб (из-за отсутствия внутренней рифмы данный размер может рассматриваться и как шестистопный ямб) тоже является исключительно редким в народной поэзии, да и в загадках "правильные" силлабо-тонические размеры почти не встречаются (ср. "По горам, по долам бродят шуба да кафтан").
Явный оттенок книжности, но уже не поэтической, несёт следующая загадка: "Чем больше я верчусь, тем более толстею". 1-е лицо субъекта (и объекта) загадки вводится здесь избыточно: и через личные формы глаголов (верчусь, толстею), и через личное местоимение (Я). Кроме того, и сравнительный оборот "чем больше,.. тем более" носит искусственный, книжный характер.
Иной хронотоп встречаем в таком высказывании: "Возьму пыльно, сделаю жидко, брошу в пламень — будет как камень" (отгадка — мука, тесто, хлеб). Здесь действие отнесено в будущее, это действие — мыслимое, условное, и — действие загадчика, поскольку с объектом загадки ее субъект, заданный опять же личными формами глагола, — вовсе не совпадает.
Интересный и немаловажный для последующего изложения пример даёт упрощение хронотопа в известной загадке: "Два братца пошли купаться, а третий в сторонке стоит" (отгадка — вёдра и коромысло). Как правило, её загадывают и, соответственно, публикуют в сокращённом варианте: "Два братца пошли (на реку) купаться", хотя существует и более развёрнутый вариант: "Покупались, вышли, да на третьем повисли". В чём же причина такого уважения к братцам-вёдрам и неуважения к братцу-коромыслу? Видимо, в том, что сложные временные отношения здесь оказываются всего-навсего двучленными: два братца
существуют в прошедшем времени совершенного вида: пошли (покупались, вышли, повисли), — а третий — в настоящем времени несовершенного вида: стоит. Несвойственное загадочному хронотопу двоение устраняется, тем более, что сам объект загадки общеупотребителен и нагляден. С тем же принципом экономии языковых средств неоднократно приходится встречаться в пословицах, первая часть которых часто повторяется, а вторая остаётся подразумеваемой.
Поэтому, исходя из рассмотренной выше (см. главу I) паремиологической парадигмы, следует признать существование некоего поджанра, находящегося по отношению к собственно загадке в положении, близком к положению поговорки относительно пословицы. Поскольку из-за специфических особенностей загадки данный поджанр представлен очень ограниченным количеством вариантов, то он не противопоставляется загадке с той же чёткостью, с которой поговорки противопоставлены пословицам. Различия с обычной загадкой становятся очевидными только на уровне семантического анализа (см. главу III). Пока же ограничимся лишь указанием на существование такого поджанра и дадим ему название загадки условной, конвенциональной.
Возвращаясь к приведенному тексту загадочного высказывания, спросим себя: почему это — загадка? Что загадочного в купании двух братьев? Ничего. Значит, здесь налицо восприятие данного высказывания именно как загадки — то ли благодаря заданной ситуации общения, то ли вследствие того, что оно служит как бы знаком обычной, полноценной загадки, где загадочным является отстранение действий одних объектов загадки от "родственных" им других.
Все приведенные выше примеры, содержащие различные варианты реализации хронотопа в загадке, взяты из сборника Д.Н.Садовникова, составленного на основе фольклорных материалов, собранных до 70-х годов XIX века. В то время загадки, имеющие хронотоп, отличный от собственно загадочного, были единичными, но тем не менее уже отражали начавшийся, скорее всего, с XVII века процесс взаимодействия этого жанра с литературой. Поэтому исторически изменчивый облик загадки оказался запечатлённым на конкретном временном срезе. Сопоставляя такие срезы, сделанные паремиологами на протяжении полутора веков исследования русской загадки, можно проследить, как изменялась в ней роль "других" хронотопов; как загадка взаимодействовала с иными жанрами словесного творчества.
Уже отмечалось, что хронотоп собственно загадки отождествляет "здесь и сейчас" со "всегда и везде". Чисто грамматически это выражается использованием форм прошлого времени и 3-го лица настоящего времени, а также эллиптических безглагольных конструкций типа "Сухой – клин, мокрый – блин" (отгадка — зонт), "Кошка из окошка – я за хвост" (отгадка — нитку вдевают в иголку). Напротив, пословица общее положение "везде и всегда" применяет к конкретной ситуации "здесь и сейчас". Поэтому в ней также встречаются формы 3-го лица настоящего и прошлого времени: "Всяк кулик своё болото хвалит", "Собака лает — ветер носит", "Что упало, то пропало", — а также эллиптические конструкции: "В семье не без урода", "Дорога ложка к обеду" и т.д.
Но загадка с отгадкой представляют собой всё-таки полноценный диалог, а пословица — в лучшем случае реплику в диалоге. Поэтому пословице свойственно использование 2-го лица настоящего времени ("Без труда не выловишь и рыбку из пруда", "Выше головы не прыгнешь"), инфинитива ("Волков бояться – в лес не ходить") и повелительного наклонения ("Куй железо, пока горячо", "Семь раз отмерь – один отрежь", "Не хвались, идучи на рать, а хвались, идучи с рати") плюс их разнообразные комбинации ("Любишь с горочки кататься – люби и саночки возить"). В загадке подобные формы встречаются, скорее, как исключение, на "окраинах" жанра и в вариантах загадок ("Что из избы не выметешь?", "Крылья есть, да не летает, ног нет, да не догонишь", "Заедешь в ухаб — не выехать никак").
На пословицу можно ответить другой пословицей (— Яйца курицу не учат! — И на старуху бывает проруха!), — загадка же требует только отгадки, которая — во всех смыслах — выступает как её подтекст. Значение отгадки для жанра в целом настолько велико, что некоторые исследователи считают её наличие не только необходимым и достаточным, но даже единственным условием, определяющим загадку и отделяющим ее от иных фольклорных жанров. Так, В.В.Митрофанова пишет: "Если отгадки нет, загадка разрушается, утрачивает смысл; разрушается и её художественный образ. Возьмем, например, загадку про огурцы: "Телятки гладки привязаны к грядке". Если исключить отгадку, исчезает иносказание, получается простое сообщение жизненного факта о том, что гладкие телятки привязаны к грядке"[90].
Конечно, "жизненного факта" из этой загадки не получится, ибо никому и никогда еще не удавалось привязать хотя бы одного телёнка непосредственно к грядке – разве что к колышку, в данную грядку вбитому. Да и какой хозяин в здравом уме оставит теленка привязанным в огороде (а где же ещё, кроме огорода, существуют грядки)? Поэтому приведенный В.В.Митрофановой пример свидетельствует, скорее, о противоположном: "иносказание", а если быть точным, то несовместимость загадочного высказывания с повседневным опытом заложена в структуру первого с тем, чтобы отгадка могла такую несовместимость разрешить, снять. Действительно, ведь и пословица не сводится к констатации того или иного "жизненного факта". Например, высказывание "Дорога ложка к обеду" никто не употребляет и не воспринимает в качестве подобного "жизненного факта". Эта, да и всякая другая пословица, имеет ассоциативный, "метафорический" круг значений, а потому требует расширительного толкования и получает его в различных коммуникативных актах. Но пословица не становится от этого загадкой и не направлена на разрешение противоречия в пословичном высказывании: из-за отсутствия такового в структуре пословицы.
Загадка же направлена именно на отгадку как на "своё-другое" (термин М.М.Бахтина), структура загадки такова, что оставляет как бы пустоту, лакуну, заполняемую только отгадкой (отгадками) и притягивающую её к себе. Обращаясь к аналогиям, можно сравнить структуру загадки со структурой тех химических соединений, которые называются кластерами и содержат "локус", заполняемый только тем или иным ионом металла с образованием металлорганического соединения. Без отгадки невозможен загадочный диалог, невозможна сама загадка. Сходное понимание загадки высказано Ю.И.Левиным: "С семантической точки зрения загадку можно определить как текст, денотатом которого служит некоторый объект, в самом этом тексте явно не названный. Если ограничиться этим определением, то к загадке следует отнести, например, перифразы, многие метафоры, а также высказывания вида "2+3" или "множество точек, равноудаленных от данной точки". Добавим поэтому к определению загадки, что с прагматической точки зрения функцией этого текста является побудить адресата назвать объект-денотат (т.е. включиться в диалог,– В.В.).., и что этот текст не должен исчерпывающим образом описывать объект"[91].
Но ведь и отгадка становится таковой исключительно благодаря структуре загадочного высказывания. Это — два полюса магнита, которые невозможно разъять. Иное дело, что со временем такая сила магнетизма может ослабевать, и тогда загадочное высказывание переходит в разряд условных, конвенциональных, подобных усеченному варианту загадки о братцах-вёдрах. Этот вариант уже не содержит в себе противоречия, а потому не направлен на отгадку, не поддерживает её как семантически необходимый элемент загадочного диалога. Именно в этом случае отгадка оказывается излишней и утрачивается, а само загадочное высказывание, по точному определению В.В. Митрофановой способно "становиться афоризмом и быть воспринятым как пословица". Суть здесь вовсе не в утрате отгадки как таковой. Во всяком случае, подобная утрата — не первична в жанрообразующем отношении. Скорее, мы имеем дело с размыванием паремиологической парадигмы. Для конвенциональной загадки о двух братцах условность заключается именно в том, что ослабевает взаимозависимость загадочного высказывания и отгадки, что последняя уже не определяется здесь первым: отгадка в данных условиях может быть сколь угодно разнообразной, поскольку парных предметов, имеющих отношение к купанию и реке, великое множество. Единственная отгадка: "вёдра" присутствует лишь благодаря сохраняющейся генетической связи с "полным" вариантом.
Показательно, что в языках романской группы отгадка именуется "словом загадки". В русском же, и вообще в славянских языках, соотношение двух составляющих загадочного диалога несколько иное. Они рассматриваются в качестве понятий, находящихся в тесном, корневом родстве, однако их префиксы, означающие связь с действием, практически антиномичны. Вследствие этого загадка и её отгадка выступают как результаты одинаковых по качеству, но противонаправленных действий (ср. "закрыть – открыть", но "зайти – выйти" и, соответственно "отойти – подойти"). Отгадка русской загадки – не просто зашифрованное, метафоричное le mot de l’enigme. Такая разница понятий не может быть случайной, она определённо несёт в себе некое культурологическое значение, которое необходимо выяснить.
3.2. Образность в загадке
В предыдущих разделах автор неоднократно заявлял о необходимости эстетического подхода к изучению загадки вообще и её типологии в частности, но сколь-нибудь последовательного изложения того, что же представляет собой, по его просвещённому мнению, этот пресловутый подход, — не давал, ограничиваясь разрозненными замечаниями и туманными отсылками в будущее. Hic Rhodus, hic salta! — "Здесь Родос, здесь прыгай!" — было сказано одному античному жителю, похвалявшемуся, будто на Родосе он совершал невероятно дальние прыжки. Попробуем прыгнуть.
И начнем разбег с того определения эстетики, которое уже использовалось в настоящей работе: Эстетика — форма познания, охватывающая сферу выделенных, т.е. взятых в отношении к субъекту, субъект–объектных взаимодействий. Подобное определение эстетики позволяет включить в него и различные виды собственно эстетической деятельности человека: от восприятия эстетических объектов до их создания, — и науку, изучающую закономерности такой деятельности, "охватывающую" эстетическую деятельность "сверху". Эстетическая деятельность здесь — это деятельность по поводу эстетических объектов, их создания, существования и восприятия.
А эстетическим объектом служит любой объект, включаемый в сферу эстетических (выделенных субъект–объектных) отношений. Эти определения грешат тавтологией, но такая тавтология — лишь кажущаяся. Дело в том, что эстетика — это ещё и форма бытия объекта для субъекта; причём форма специфическая, в которой объект существует не только сам по себе, но существует прежде всего по отношению к субъекту. Возможность подобного субъект-объектного взаимодействия, видимо, обусловлена резонансным характером структур человеческой психики. И некоторые свойства объектов (цвет, форма и т.п.) или сочетания этих свойств — обеспечивают эстетический по своему характеру резонанс.
Многие природные объекты воспринимаются человеком именно эстетически: цветы, животные, раковины, другие люди, те или иные ландшафты. Это первичное эстетическое восприятие всегда относит объект либо к категории Прекрасного, либо к категории Безобразного — в противном случае оно не является эстетическим (не задействуются структуры, связанные с эстетическим резонансом). А поскольку психофизиологические основы восприятия у людей не сильно различаются, хотя и способны варьировать в некоторых пределах, то и восприятие Прекрасного (Безобразного) будет не столь уж субъективно, как может показаться.
Наряду с такими природными, первично-эстетическими объектами, существуют объекты и системы, специально создаваемые человеком для выполнения эстетических функций. Эти объекты или системы являются вторично-эстетическими, прошедшими через трудовой процесс, и только в его результате получившими способность вызывать эстетический резонанс. Корректно будет определить их как эстетические знаки, тем более, что понятие художественного образа (далее — ХО) выступает одним из центральных понятий принятой автором эстетической концепции, а "знак" традиционно рассматривается большинством исследователей как родовое понятие для "образа".
Так, согласно Ч.Пирсу, знаки-подобия (иконы) обладают сходством с объектом, который обозначают; знаки-индексы реально зависят от объекта, на который указывают; а знаки-символы являются чистыми, условными знаками[92]. "Икона", в переводе с греческого, — "образ" (ср. русское название православных икон — "образá"). То же, по сути, различение можно найти и в советском "Философском энциклопедическом словаре"[93], где "иконы" Ч.Пирса называются "копиями" (неудачная замена, — В.В.), а "индексы" – "признаками". Это обстоятельство заставляет обратиться к теории знаков, чтобы выяснить место в ней эстетических знаков и художественных образов.
"По определению, данному ещё св. Августином, "знак (signum) есть то, что обнаруживает чувственному восприятию и самого себя, и что-либо помимо самого себя"... Из такого определения вытекает очевидный вывод: предмет не может быть знаком самого себя,.. не может иметь статус знака, если не отсылает субъекта к чему-то иному"[94]. Это "иное" и есть значение (под значением здесь и далее понимается информация высших порядков, информация об информации, принципиально несводимая к непосредственному взаимодействию субъекта и объекта-знака). Бесспорно, что человек обладает сложнейшей внутренней формой (структурой) и постоянно включен в бесконечное множество взаимодействий, так что для актуализации каких-то из них в субъектном, психическом бытии эти взаимодействия должны быть важными, значимыми также и для бытия человека в объектном плане. Эволюция отбросила механический перебор вариантов действия. Наше сознание существует в анизотропном, неравномерном пространстве, и решение принимается после учёта минимально возможного объёма информации. Однако этот минимум должен быть максимально — и даже опережающе — значим, иначе вероятность ошибки становится неприемлемо высокой.
Характерно, что все живые существа: от бактерий до высших животных и растений, — выработали механизмы обмена биологически важной информацией. Так, согласно недавним исследованиям[95], танец пчелы содержит данные о необходимой траектории и продолжительности полёта к источнику питания, а также характеристику самого источника. Но даже самые сложные из подобных механизмов (генетический, например) не носят знакового характера, который, впрочем, с лёгкостью придаётся им в мышлении того или иного учёного субъекта, одинаково хорошо представляющего себя — на месте пчелы, бактерии или даже гена.
Имея в виду, что носители биологической информации отличаются быстротой распространения, надёжностью выделенного восприятия, относительной нестойкостью во внешней среде, — т.е. рассчитаны на моментальную реакцию (в т.ч. — генетически обусловленную), за ними здесь и далее будет сохранено название "сигналов". Сигнал как таковой характеризуется тождеством его субъектного и объектного бытия. Любой знак, будучи знаком, реализует свои знаковые функции только становясь сигналом, "развоплощаясь" в него. Поэтому любой знак можно определить как застывший сигнал, а сигнал — как моментальный, ситуативный знак. Эта разница временного бытия между ними весьма существенна.
Человеческая речь развилась из системы звуковых сигналов, она существует не иначе, как в пространстве мимики, жестов, интонаций, пауз и т.д., но только с введением письменности оказалась продублирована системой знаков. Не случайно И.П.Павлов называл речь "второй сигнальной системой"[96] (по аналогии с "первой", чувствительно-двигательной, нервной). Создание знака (знаковой системы) свидетельствует не только о важности и повторяемости предшествующего сигнала, но также — об установлении обязательности будущего, отложенного во времени и/или в пространстве действия. Знак — не просто застывший, но ещё и абстрагированный, "общесмысловой" сигнал.
Как заметил еще Ф.Энгельс, "ни одна обезьянья рука не изготовила хотя бы самого грубого каменного ножа. Прежде чем первый кремень... был превращён в нож, должен был, вероятно, пройти такой длинный промежуток времени, что по сравнению с ним известный нам исторический период является незначительным"[97] Нечто, подобное простейшим знакам, доступно и для высших животных. Так, медведь, помечая границы своих владений, поднимается на задние лапы и дерёт кору деревьев. Но эти засечки отличаются от засечек лесоруба именно тем, чем орудия труда, созданные человеком, отличаются от палок и камней, которые используются человекообразными обезьянами. Знаки выступают как результат и одновременно — как орудия мышления. Именно в этом отношении они подобны орудиям труда. Ведь, поскольку трудовые процессы, их последовательность и характер всё более усложнялись, постольку имела место специализация орудий труда. Точно так же с развитием процессов мышления специализировались и орудия, инструменты мышления — знаки. История подобной специализации, причём в соотношении с типологически сходной эволюцией орудий труда, — хорошо реконструируется с помощью данных археологии.
Известно, что древнейшие орудия труда представляли собой односторонне оббитую гальку и относились к периоду распространения австралопитеков (Олдувай, 1,75 млн. лет назад). А древнейшие из сохранившихся знаков (известняковые шары неандертальцев, пещерные рисунки) относятся только к эпохе мустье (70–38 тыс. лет назад). Эти знаки весьма характерны. "Если судить о мире художников позднего палеолита по их произведениям, то предстанут на нейтральном фоне два единственно отчётливых, динамичных, живописных типа живых существ: человек–охотник и его добыча, — крупные животные. Растений почти вовсе нет; мелких и несъедобных животных – тоже. Из неживых объектов – только орудия охоты... Итак, кто убивает, что убивает и чем. Это главнейшие объекты мира первобытных охотников... Иным предстаёт перед нами... мир земледельцев-скотоводов. Он более организован и сложен. Здесь преобладают композиции, замысловатые или незатейливые сюжеты. Одна из характерных особенностей: появление изображений ландшафтов, экологически связанных живых существ"[98].
Но даже если считать знаками или "протознаками" части тела животных (головы и конечности), сохранявшиеся после разделки туш неандертальцами с какой-то специальной целью (эпоха рисского оледенения, 230 тыс. лет назад)[99], то и в этом случае между использованием первых орудий труда и созданием "протознаков" прошло не менее полутора миллионов лет.
Этот необозримый период времени без особой натяжки можно принять за период становления абстрактного мышления, во всяком случае — зачатков его. Дальнейшая археологическая реконструкция позволяет установить переход от "натурального творчества", предметом которого были указанные выше части тела животных, к созданию "натуральных макетов" животного, а затем — к глиняным моделям и раннеориньякскому рисунку[100]. Отсюда выявляется характерная последовательность формирования знаков: сначала часть объекта (голова, лапа) выступает как представитель объекта в целом, затем форма объекта начинает воплощаться в ином материале (глине),– и, наконец, объект утрачивает естественную форму, сводясь к плоскостной проекции, контуру.
Тем самым наблюдается постепенное упрощение знака, самогó представленного объекта по сравнению с объектом представляемым. Но при этом усложняется, обобщается его смысл, расширяется передаваемая системой знаков система значений. Отбор свойств объекта (процесса, явления), воплощаемых в ином объекте (знаке), предполагает, во-первых, их мысленное выделение из бытия — и возможность необходимого орудийного воздействия на материал воплощения с целью создания знака, во-вторых. Точно такое же выделение, закрепление и последующее использование необходимых свойств объекта можно выделить в процессе изготовления, например, каменных орудий — для них это тяжесть, твёрдость и острота рабочего края. Но вычленение какого-либо свойства (признака) объекта сопровождается утратой или, вернее, изменением характера цельности данного объекта: из общецелого, противостоящего чему-то иному, он становится единоцелым, некоторой совокупностью свойств и качеств, — т.е. выделению предшествует разделение. А потому выделение неминуемо несёт в себе черты разделения: так, цвет не существует сам по себе, но лишь в соотнесении с иными цветами. Серое не было бы серым без чёрного, белого, жёлтого, красного, синего и т.д. Знаки системны, соотносимы между собой изначально.
И, подобно орудиям труда, знаки не всегда, не постоянно выступают в качестве сигналов, однако они ориентированы именно на такое восприятие. В некотором смысле сами орудия труда можно рассматривать в качестве потенциальных знаков — знаков действий, выполняемых с помощью этих орудий. Но такая потенциальная знаковость орудий труда является всего лишь мыслимым соответствием орудийной функции знаков. Дополнительным свидетельством типологического сходства орудий труда и знаков является возникающая в процессе их развития необходимость кодирования и декодирования. Под кодированием обычно понимается операция "перевода сообщения в последовательность различимых сигналов"[101], а под декодированием — обратная операция.
В принятой здесь терминологии это соответствует именно развоплощению знака в сигнал и ситуативному восприятию объекта в качестве знака — т.е. взаимодействиям, принципиально невозможным без известного механизма кодирования. Сходные процессы обучения навыкам производства обозначены М.К.Петровым как "социальное кодирование", "социокод". Очевидно, что знаковый тип кодирования оказывается необходимым условием реализации социокода, достигшего определённой сложности.
Поэтому любое упрощение социокода (по причинам стихийным, военно-политическим или любым иным), как правило, влекло за собой и утрату механизмов знакового кодирования. В данной связи характерно, что традиционные сообщества не пошли дальше слогового письма (а цивилизации Дальнего Востока и Америки остановились на письме иероглифическом). Но именно поэтому при усложнении социокода знаки оказались способны развиться в столь универсальные и одновременно — специализированные системы, какими являются, скажем, алфавит и десятичные цифры. Так что разделение Ч.Пирсом знаков на признаки (здесь — сигналы), иконы (здесь — подобия) и символы, — имеет под собой реальную эволюционную основу, впрочем, чуждую концепции Ч.Пирса.
Чтобы выяснить, чем же знак-символ отличается от знака-подобия (отношения между понятиями знака и сигнала как носителей информации обсуждались выше), нам необходимо вернуться к механизму создания знаков как таковых. Исходя из теории отражения, взаимодействие объектов предполагает и взаимное изменение их. Это внутреннее системное движение объектов представляет собой своего рода цепочку следов прошлых взаимодействий, по которой можно судить не только о характере самих взаимодействий, но также — о свойствах объектов, которые взаимодействовали с данным. Например, по тем же медвежьим меткам на дереве — о росте, а также примерном весе, возрасте и некоторых других особенностях зверя.
Выделение присущих объекту свойств и перенесение их на субстрат воплощения идентично созданию знака. Понятно, что к числу таких свойств должны относиться прежде всего целостность объекта и его внутренняя форма (структура), а также составляющие эту форму элементы. Поэтому любой знак представляет собой систему, структуру, элементы которой синтезированы или иначе, или не в том объёме, который присущ обозначаемым объектам и явлениям.
Если порядок соединения выделенных элементов при этом сохраняется, то мы имеем дело со знаком-моделью. "Инаковость" же соединения этих элементов характерна для знаков-образов как единства субъективного (порядка соединения) и объективного (самих элементов образа). Модель безразлична к качеству входящих в неё, отражённых в ней элементов. И образ, и модель сохраняют подобие обозначаемых ими объектов, но в различных измерениях. Сопоставляя обе эти разновидности знака-подобия с их первичным объектом (прототипом), следует отметить общие для них качества векторности и синкопальности.
Под синкопальностью здесь понимается "выпадение" некоторых свойств объекта в его подобии (образе или модели), а под векторностью — то обстоятельство, что "остаток" представленных в данном подобии свойств (элементов) всегда не случаен, всегда определяется некоторой доминантой, присущей уже субъекту. Если это — доминанта эстетического характера, то образ может приобрести дополнительное качество ассоциативности и перейти в категорию художественного образа. Ассоциативность здесь — свойство образа представлять одновременно и "свой" объект, и некий иной объект или образ. если же такая двойственность значения системна, т.е. распространяется на ряд признаков как обозначаемого, так и подразумеваемого объектов, то данный образ становится образом нового качества — аллегорией.
Для моделей, в т.ч. моделей эстетических, подобное развитие ассоциативности невозможно, поскольку, как отмечено выше, любая модель изначально соотносится с любой системой, имеющей идентичный модели порядок соединения своих элементов — при полном безразличии к качеству данных элементов (по замечанию В.В.Маяковского, математику всё равно, что считать: окурки или паровозы). В силу указанной особенности, модели способны прежде всего к дальнейшему упрощению и универсализации – вплоть до утраты ими системного характера и представления одного-единственного элемента (свойства, признака), присущего обозначаемому феномену или группе феноменов. При этом такая упрощённая, предельно синкопированная модель утрачивает свойства подобия и становится символом.
Конечно, понятия "аллегории" и "символа" очень многозначны, и анализ всего комплекса связанных с ними смысловых расхождений и оттенков может служить темой для отдельной и объёмной монографии. Но некоторые моменты, связанные с высказанными здесь положениями, отметить необходимо. Так, например, концепция символа у Й.Хейзинги вполне сопоставима с изложенной выше типологией познания: "Символизм, рассматриваемый с точки зрения каузального мышления, представляет собой нечто вроде умственного короткого замыкания. Мысль ищет связь между двумя вещами не вдоль скрытых витков их причинной взаимозависимости,– она обнаруживает эту связь внезапным скачком, и не как связь между причиной и следствием, но как смысловую и целевую. Убеждение в наличии такой связи может возникнуть, как только две вещи обнаруживают одно и то же существенное общее свойство, которое соотносится с некоторыми всеобщими ценностями. Или, другими словами: любая ассоциация на основе какого бы то ни было сходства может непосредственно обращаться в представление о сущностной, мистической связи"[102].
Между тем мистики вполне разделяют всеобщий принцип аналогии и вытекающее из него чувство ассоциации, исходя из всеобщих единства и сопряжённости высших и низших форм бытия, что выражено в главном принципе Гермеса Трисмегиста "Всё во всём". Данный принцип проявляется через синархические законы гармонических сочетаний. "Рассматривая даже один какой-нибудь частный план, одно сечение мироздания, мы всегда будем видеть, что вся масса факторов, в нём действующих, на первый взгляд самостоятельных и независимых, на самом деле между собой связана самым строгим и определенным образом"[103]. Разумеется, противоположным принципом для мистики выступает принцип иерархии, принципиально непознаваемый и существующий как божественная данность.
Символ на правах элемента может включаться в иные системы: как символические (например, алфавит), так и образные. В последнем случае значение символа "встраивается" в значение образной системы — и структура значений обретает сходство с известной русской игрушкой "матрёшка". Правда, "матрёшки" эти обладают специфической особенностью: внутри образной системы символические элементы не содержат в себе "элементы элементов" того же качества, но "матрёшек" одного уровня может быть очень много. Такая "однослойность" эстетических символов не раз вызывала протесты: осознанные и неосознанные, — у желающих "поверить алгеброй гармонию".
Намеченная здесь принципиальная картина эволюции знаков как своего рода орудий мышления, конечно, грешит неполнотой и отрывочностью, однако для рабочей гипотезы подобный недостаток вполне искупается, во-первых, внутренней цельностью, а во-вторых, теми возможностями, которые она открывает для дальнейшего изучения проблемы. Важнейшей из таких "точек роста", до сих пор не выделенной явно, служит положение о ведущей роли значений, смыслов как информации высшего порядка (ценностей) – в формировании знаков и знаковых систем. Для настоящей работы, посвященной эстетике русской загадки, данное положение выступает необходимым фундаментом понимания речи как материальной основы, на которой создаются произведения фольклора, в т.ч. и загадки.
Особенности речи как "второй" сигнальной системы достаточно своеобразны и заслуживают подробного рассмотрения, прежде всего — в свете потенциальных эстетических функций её, послуживших созданию шедевров устного народного творчества и литературы. Под речью здесь понимается сложная система высокодифференцированных звуковых сигналов. Некоторые животные (особенно птицы) способны воспроизводить отдельные фрагменты человеческой речи. В то же время использование речи по ряду физиологических причин (различные формы немоты) недоступно многим людям. Для них место звуковых сигналов занимают, как правило, сигналы зрительные, а при невозможности восприятия таковых (слепоглухонемота) — осязательные.
Что касается животных (птиц), то воспроизведение ими фрагментов человеческой речи объясняется прежде всего звукоподражанием, которое, впрочем, через условнорефлекторные механизмы может способствовать включению этих фрагментов (слов и фраз) в набор ситуативных сигналов данного животного (птицы). Обучение шимпанзе физиологически доступной для них системе сигналов показало, что взрослые животные достаточно быстро выходят на уровень общения, примерно соответствующий уровню общения двухлетних детей, но не более того. Совокупность этих фактов доказывает не столько уникальность феномена речи, сколько его неразрывную связь с человеческим сознанием и — шире — с социальным бытием человека.
Обычно системные аспекты речевой деятельности определяются в понятии "языка", а собственно речь выступает как ситуационная реализация данной системы. "Язык как система имеет характер своеобразного кода; речь является реализацией этого кода"[104]. В то же время знаковая теория языка предполагает разделение языковых знаков на полные знаки (вернее, сигналы. — В.В.): предложения, соотнесённые с ситуацией высказывания, — и частичные: словосочетания, слова и даже отдельные фонемы, с ней не соотносимые, но реализующие своё потенциальное значение в составе полных знаков. Тем самым налицо некоторая неопределённость в понимании языка, который рассматривается то в качестве системы знаков, то в качестве кода, то как система значений. Что же такое язык? C принятых здесь позиций в понятии языка определяется механизм кодирования–декодирования речи, некий естественно-социальный или, лучше сказать, стихийно-социальный код, соответствующий всей системе субъектных значений, но вовсе не сама система этих значений и — тем более — не система собственно знаков (сигналов). Сущность языка составляет механизм перевода внутренних, субъектных значений в объектно-речевые сигналы и наоборот. Иными словами, язык объективирует субъектный мир для других субъектов и субъективирует их речевые сигналы для данного субъекта (личности). Мы, несомненно, воспримем речевой сигнал на незнакомом для нас языке, но понять, субъективировать его значение, его смысл — не сможем.
Тем самым приходится признать первичность этих внутренних, субъектных, психических значений — или, вернее, знаковых эквивалентов — по отношению к воплощённым вещественно, материально знакам. Данное обстоятельство подчёркивает вторично-объективированную, "прошедшую через субъект" природу знака, его зависимость от представлений субъекта о том, что, когда и как необходимо объективировать. А подобные представления, в свою очередь, возможны лишь как результат исторически длительного периода развития как трудовых навыков, так и навыков самоотражения, мышления. Однажды возникнув, языковый код начинает активно воздействовать и на мышление, и на трудовые процессы — именно в такой, обратной последовательности, что вовсе не отменяет, впрочем, ни до– и бес-сознательных форм мышления, ни двигательного автоматизма при выполнении трудовых процессов. Но система значений, субъектный образ мира каждого индивидуума создаются уже на основе языка и в формах, заданных языком. Язык выделяется как фундаментальная — и в этом отношении универсальная — часть социокода в целом. Формирование языком системы значений уже в доступное реконструкции историческое время заходит столь далеко, что их взаимосвязь и взаимопроникновение позволяют рассматривать язык скорее как основу этой системы, чем как проявление её, а тем более — как некий отличный от неё социальный механизм.
Можно даже сказать, что владеть языком — значит не просто владеть системой кодирования ценностей (смыслов), но и владеть самой системой смыслов. В некотором отношении общность носителей данных ценностей может лишь подтверждаться, но не порождаться их видимой языковой общностью. Исследования жаргонов, диалектов, а также так называемых "тайных" языков и т.п. показывают это со всей очевидностью. Соотнесённость и соотносимость языка с системой значений, присущей субъекту: от индивидуума, личности до группы сообществ, — делает необходимым введение понятия "семантического поля" языка — того организованного и анизотропного пространства, в котором только и реализуется данный кодовый механизм. Различия в объёме и внутренней структуре семантического поля определяют собственно межъязыковые отличия, а потому приобретают фундаментальное значение для лингвистических исследований в целом. Соответственно, в структуре семантического поля можно выделить три уровня, вернее, три различных типа связи значений: грамматический, лексический и сублексический. Разумеется, эти уровни не отделены друг от друга непроходимой стеной, а образуют некое органическое единство языка, взаимопроникают между собой. Так, в русском языке процессы словоизменения осуществляются на границе грамматического и лексического уровней семантического поля, а словообразование — на границе лексического и сублексического уровней. Центральное положение собственно лексического уровня в различных языках проявляется с большей или меньшей выраженностью, но ни один из существующих языков не позволяет усомниться в этом. Несколько упрощая, можно сказать, что всё семантическое поле языка квантуется на слова, что именно слова является квантами семантического поля.
Эта аналогия с физическими теориями современности представляется в высшей степени оправданной — и не только удобствами манипулирования словом как своего рода квантовым "пакетом колебаний" семантического поля (вплоть до построения количественно верифицируемых, «цифровых» моделей). Напротив, само это удобство для автора есть лишь следствие глубочайшего объективного соответствия "образа мира", данного через языковые структуры, а также самих этих структур — структуре действительности. "Ментальные операции подчиняются законам, сходными с теми, что действуют в физическом мире"[105]. Такая "квантовая" семантика языка, теоретические обоснования которой изложены выше, и может служить исходной позицией при анализе загадки как художественного произведения. При этом любое сообщение выступает некоей интерференционной картиной вследствие наложения семантических "волн", присущих словам, составляющим данное сообщение.
Изучение массива подобных сообщений, подобных интерференционных картин позволяет не только очертить семантическое поле слова, но и выявить те "силовые линии" смысла, по которым осуществляется его суперпозиция с семантическими полями других слов. Напряжённость этих линий может значительно различаться между собой, что определяет наличие устойчивых ассоциативных связей и, как следствие, возникновение свойства ассоциативности в словесных художественных образах. Например, словосочетания "багровая осень" и "багряная осень" выступают в качестве художественных образов именно вследствие того, что семантическая связь между их элементами оказывается менее напряженной, чем ассоциативные связи одного из элементов.
Так, определение времени года "осень" по цвету вообще не характерно для повседневной речи. Эта семантическая связь — откровенно слабая. Но зато определение "багряный" вовсе не ограничивается рамками зрительного восприятия, оно устойчиво ассоциируется с цветом одежд из ткани, окрашенной пурпурным пигментом, который добывается из морских моллюсков рода Muricidae. Некогда носить такие одежды имели возможность только весьма состоятельные люди; в Древнем Риме это разрешалось должностным лицам высокого ранга, а в Византии право на пурпурные одежды принадлежало исключительно императорам (ср. Константин Порфирогенет, т.е. Багрянородный).
Т.е., помимо явной семантики цвета данное словосочетание обладает дополнительной, ассоциативной семантикой, передающей царственное величие осени как времени года (ср. у А.С.Пушкина "роняет лес багряный свой убор", "в багрец и золото одетые леса" и т.п.). Иное дело — "багровый": определение, которое применяется прежде всего к человеку ("багровое от натуги лицо", "побагроветь от гнева"). Ассоциативная семантика: сердитая, разгневанная, возможно даже пьяная, осень. Характерно, что указанные различия ассоциативной семантики проявлены как бы на сублексическом уровне, через суффиксы -ов- и -ян-, которые, впрочем, собственной семантикой не обладают, или, вернее, их семантика определяется семантикой слов, в состав которых они входят, а семантика слов, в свою очередь, — семантикой высказывания в целом.
Как дополнительный пример, приведём производные определения от существительного «земля»: земной, земляной, земельный и землистый. В первом случае реализуется семантика слова земля как некоей общей субстанции, в т.ч. планетарной (ср. земной шар, земной поклон и т.д.). Во втором случае земля выступает уже как почва, материал (земляной червь, земляной пол, земляной вал). В третьем – как сельскохозяйственное угодье (земельный участок, земельная собственность). Наконец, последний эпитет обладает семантикой цвета.
Конечно, предполагать, будто подобная разница значений задаётся суффиксами и/или корнями слова, — означает поставить проблему с ног на голову: именно дифференциация семантики вследствие расширения семантического поля приводит к появлению слов, отличающихся друг от друга одновременно на всех трёх уровнях связи значений. Слово как квант семантического поля не единично, оно системно в принципе. Простейшая из возможных образных систем, двухэлементная, — анализировалась выше. Но даже она предполагает внешнюю семантическую связь одного из элементов. Вдобавок, её возможности для смысловой интерференции, в т.ч. — для интерференции, носящей эстетический характер, — очень ограниченны.
В большинстве случаев структура сообщений оказывается неизмеримо сложнее, а их семантические элементы находятся в столь разнообразных взаимоотношениях, что провести чёткие границы, отделяющие один художественный образ от другого, не всегда оказывается возможным. Поэтому, анализируя любое произведение искусства, следует подходить к нему как системному явлению, состоящему из определённого множества взаимодействующих между собой художественных образов, — множеству, которое тем самым воплощает собой некий эстетический идеал. Здесь нет необходимости рассматривать весь круг проблем, связанных с понятием эстетического идеала (далее — ЭИ), но важнейшие, узловые для настоящей работы моменты должны быть обозначены.
Первым из подобных моментов является то обстоятельство, что ЭИ существует именно как структура взаимодействия между эстетическими категориями, воплощёнными в конкретных ХО и объединяющих их образных системах. Иными словами, ЭИ есть распределение образов действительности в эстетических координатах, которые, само собой, имеют как положительный, так и отрицательный оценочный вектор. Поэтому эстетический идеал не исчерпывается представлениями только о Прекрасном и Возвышенном, но прежде всего распределяет для субъекта, что именно — прекрасно, а что — безобразно, что — возвышенно и что — низменно; наконец, что — комично и что — трагично (обоснование такой шестиэлементной структуры ЭИ дано в Приложении 2).
Второе обстоятельство не менее очевидно: ЭИ находится в постоянном изменении — и в относительном покое. Чем дальше от физиологических основ непосредственного эстетического восприятия, тем неустойчивей ЭИ, тем активнее способны ХО изменять свою категориальную принадлежность. Т.е. представления о Прекрасном и Безобразном гораздо более постоянны, чем представления о Возвышенном и Низменном — эстетических эквивалентах этических категорий Добра и Зла. Отсюда, Возвышенное и Низменное следует определить как вторично-эстетические категории – в отличие от первично-эстетических категорий Прекрасного и Безобразного. Соответственно, категории Комического и Трагического можно охарактеризовать как внутриэстетические, поскольку именно через них осуществляются основные межкатегориальные переходы (далее — МКП) ХО. Изменение категориальной принадлежности того или иного явления действительности, отраженного, представленного в ХО и связанное с этим изменение переформирование эстетического идеала, являются необходимым условием существования для всякого произведения искусства. Общую схему МКП можно изобразить в виде следующего рисунка (стрелки указывают направление МКП):
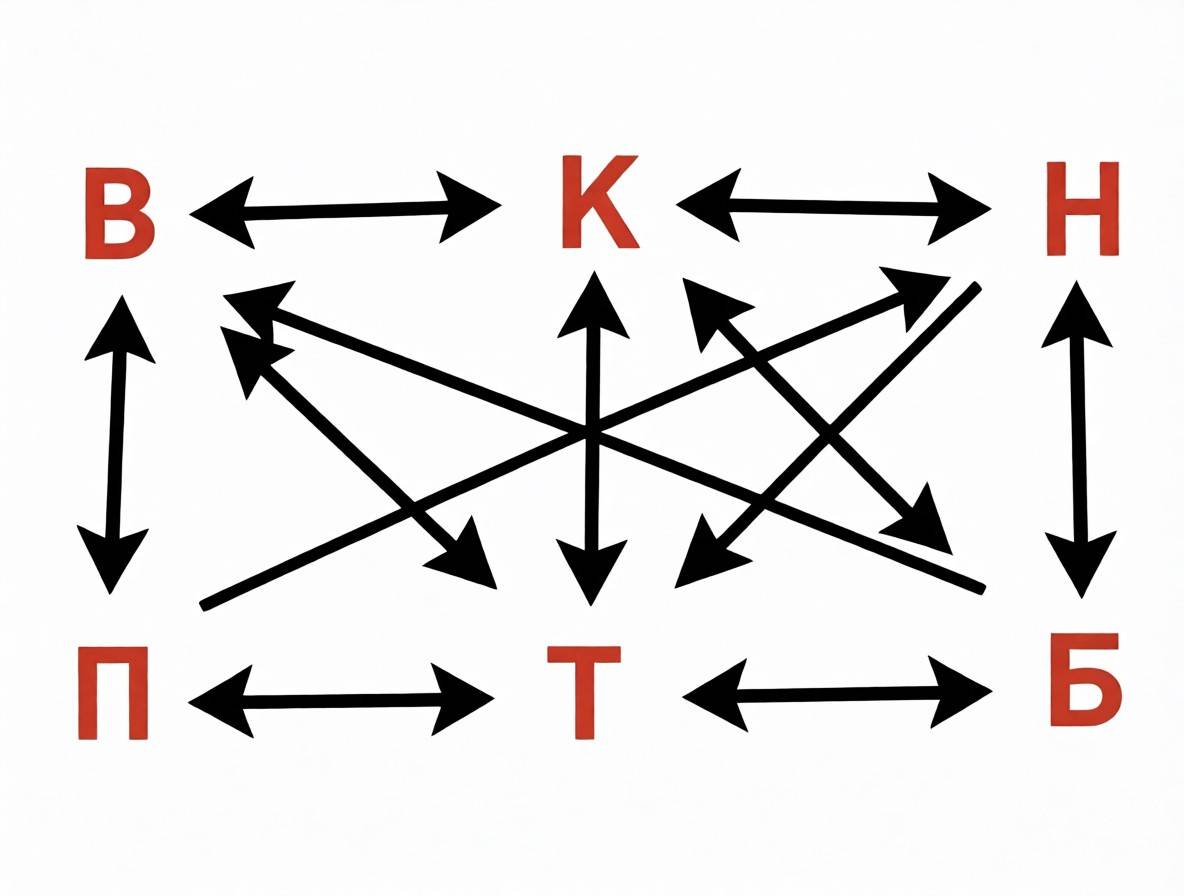
двойной клик - редактировать изображение
П – Прекрасное, Б – Безобразное, В – Возвышенное, Н – Низменное,
К – Комическое, Т – Трагическое, ↔ – направления МКП.
Пространство межкатегориальных переходов, как уже отмечалось выше, не является однородным, изотропным, в нём существуют возможные (разрешённые) и невозможные (запрещённые) направления. Так, запрещены прямые переходы ХО из вторично-эстетических категорий в противоположные по оценочному знаку первичные (т.е. Н → П и В → Б), хотя обратные МКП – достаточно частое явление в искусстве и литературе (примером перехода П → Н может служить "Портрет Дориана Грея" О.Уайльда, а перехода Б → В – "Собор Парижской Богоматери" В.Гюго).
Кроме того, практически невозможны и переходы между противоположными категориями одного уровня, т.е. П → Б и В → Н. Такие переходы всегда воспринимаются как движение образа из его начальной категории в одну из внутриэстетических, К или Т. Но запрещены также переходы П → К, поскольку они требуют, в случае П → К, чтобы признанный до того относящимся к категории Прекрасного феномен не просто уничтожался (это как раз разрешённый переход П → Т, но признавался подлежащим такому уничтожению. Однако подобная возможность блокируется самим физиологическим характером восприятия Прекрасного. Понятно, что переход К → П может соответствовать лишь деградации эстетического идеала, а потому является антихудожественным.
Раб или варвар, низвергавший статую античной богини, ненавидел прежде всего чуждую ему систему ценностей в целом, и её эстетический идеал в частности, а уже затем и вследствие этого — скульптурное изображение элемента этих систем, который воспринимался им как Низменное (в христианской терминологии – "прелестное"), но не Безобразное и ни в коем случае не Комическое. Типологически сходный характер носило восприятие античной скульптуры у, скажем так, некоторой части наших современников, для которых непосредственной формой "голых баб и мужиков" дело и ограничивалось. Соответственно, их эстетический идеал, основанный, в общем-то, на христианских ценностях, кое-как усвоенных и транслированных, сразу же относил это явление к сфере Низменного, вызывавшего у представителей мужского пола неподдельный эротически-эмоциональный интерес, а у женщин – то же самое, только прикрытое оценками типа "срам-то какой!".
В отличие от визуального и музыкального, словесный образ опосредуется семантическим полем языка. Отсюда — относительная слабость изобразительных возможностей словесного творчества, но и непревзойдённая сила его выразительных свойств. Сфера литературы поэтому — не столько Прекрасное и Безобразное сами по себе, сколько производные эстетические категории. В этом отношении загадка есть, скорее, предлитература, чем литература — и не только по факту принадлежности к фольклору. Чаще всего она, как любая из паремий, содержит в себе не систему художественных образов, а один-единственный образ — образ объекта, выступающего в качестве отгадки. Налицо видимый парадокс: если художественное произведение всегда воплощает в себе непротиворечиво переформированный эстетический идеал, что подразумевает изменение категориальной принадлежности хотя бы одного образа в образной системе произведения, а в загадке образная система отсутствует и развития образа не происходит, то можно ли загадке приписывать свойство художественности – вернее, обосновать это очевидно присущее ей качество на основе принятой здесь гипотезы?
Парадокс, надо признаться, не из легких. Для его разрешения вернёмся к загадке "снизу", от семантического поля языка, внутри которого и возникает особая смысловая структура — структура художественного образа. Ранее отмечалось и необходимое для этого усложнение предметно-логического взаимодействия субъекта с окружающим миром (неизбежно переходящее в "интерференцию" колебаний семантического поля), и роль ассоциативной семантики (суперпозиция смыслов, например, в именах собственных идёт или по типу сращений: "Змея–Радуга", — или по типу метафор: "Стёртое-копыто-старого-бизона"[106]). Такое употребление образных названий в качестве личных имён свидетельствует в пользу того, что общества, где такая практика встречается, уже преодолели барьер аналогического мышления, но аналогии ещё лежат в основе всей их социальной деятельности. Точно так же в загадке "взят" барьер видимой причинности — барьер, достаточно серьёзный, например, еще для старших софистов. И образ в загадке строится с опорой именно на этот барьер — чтобы тем вернее преодолеть его в отгадке. Спектр смысловых связей здесь чрезвычайно разнообразен. Вот, например, простейшие русские загадки:
Без лица в личине.
Мужик (идёт) из лесу, зеркало за поясом.
Курица на курице, а хохол на улице.
Сто молодцов на одном головище спят.
На гору идёт, а под гору не идёт.
За леском-леском кипит гора с песком.
Не огонь, а жжётся.
По земле ходит, неба не видит.
При всем многообразии задействованных здесь грамматических конструкций, семантический тип высказываний сводится к общей формуле: признак (действие) названного объекта, квази-объекта загадки сопоставляется с признаком (действием), которое не может принадлежать данному квази-объекту, и явно или скрыто вступающим в противоречие с ним. Сам объект при этом или вообще выводится за пределы загадочного высказывания, или же замещается квази-объектом (неодушевлённый, как правило, одушевлённым, неживой — живым, и наоборот, что верно подмечено В.В.Митрофановой[107]). Но и в том, и в другом случае художественный образ загадки единичен, внесистемен — он, собственно, и возникает как следствие подобного семантического противоречия. Эта специфика загадки очень интересна для понимания основ словесного творчества.
Поскольку все русские загадки строятся с использованием элементарных художественных образов, например: "Чёрен, да не ворон, рогат, да не бык, шесть ног без копыт; летит — воет, сядет — землю роет", — то эстетическое значение, реализуемое в простейших, элементарных загадках, следует признать не только специфическим, но и фундаментальным. Казалось бы, остается лишь предположить, что нарушение видимых причинно-следственных связей бытия (и последующее разрешение-«исправление» данного противоречия в отгадке) обладает художественными свойствами особого характера, более глубокими и универсальными, чем описанные выше эстетические категории — или что загадочные высказывания не существуют изолированно друг от друга, что действительно художественными свойствами обладает не загадка сама по себе, но некий ряд последовательно загадываемых (и разгадываемых) загадок.
Но и первое, и второе предположение не могут быть приняты — по многим обстоятельствам. Например, даже единственная загадка вроде "Без рук, без топорёнка построена избёнка" или "Под гору тихонько, а в гору бегом" — явно имеет самостоятельное художественное значение. Если же обратиться к вечной спутнице загадки — пословице, то выяснится, что и в ней нет каких-то "особых", внекатегориальных словесных образов, но, напротив, зачастую в один-единственный образ, соотнесённый, правда, с внеречевой ситуацией, оказывается "упаковано" представление о должном образе действий применительно к описанной ситуации. Тем самым паремии пословичного типа действительно могут не содержать в себе образной системы — достаточно единственного образа, который "раскрывается" в конкретной внеязыковой ситуации. "Контекст" паремий оказывается открытым в действительность. Для пословицы Должное реализуется эстетически в категории Возвышенного, а потому общий для неё тип МКП: К → В. Поскольку В здесь относится к внеречевому контексту, то любая пословица содержит в себе образ, так или иначе принадлежащий сфере Комического — в той или иной степени разрушающего данность конкретной ситуации, освещающего её "с точки зрения Возвышенного (Должного)".
Загадка, будучи паремиологическим антагонистом–двойником пословицы, должна осуществлять и действительно осуществляет зеркальный, дополнительный по отношению к пословичному, переход: Б → К. В самом деле, разрушение видимых причинно-следственных связей относит названный в загадочном высказывании квази-объект к категории Безобразного (а иногда, в "эротематических" загадках — и Низменного), так что лишь отгадка, устанавливающая действительную природу загаданного объекта, превращает всё высказывание в нечто преодолённое и комическое. Такая эстетическая семантика жанра, несомненно, позволяет несколько иначе взглянуть на проблемы типологии и классификации загадки. Что же касается универсальности реализованного загадкой художественного метода, то более подробно проблема рассмотрена в конце настоящей работы.
Приложение 1.
О статусе эстетики в культуре ХХ века.
За последнюю треть века культурология в России стала модной научной дисциплиной. Издано множество статей, монографий, учебников, посвященных культурологии, в ряде высших учебных заведений открыты кафедры культурологии. И этот интерес не может быть объяснен только изменением академической конъюнктуры. На развитие культурологии есть мощный социальный заказ.
Культурология, как следует из ее названия – наука о культуре. Но что понимается под словом «культура»? Даже исключив из рассмотрения специальные области научного знания – такие, например, как микробиология и археология, ограничив себя только сугубо гуманитарными дисциплинами, – мы обнаружим сотни толкований и определений термина «культура», не только не совпадающих между собой, но порой даже прямо противоречащих друг другу.
Наша задача – не ловить рыбку в мутной воде подобных дефиниций, а максимально точно и полно выявить сущность феномена культуры, а также его внутреннюю и внешнюю форму в их взаимосвязи и взаимодействии. Поэтому понятие «культура» будет рассматриваться здесь и далее в его предельно широком понимании – как способ бытия общества и человека. Иными словами – то, каким образом все мы вместе и каждый из нас существуем в этом мире.
Очевидное нарастание глобальных кризисов: энергетического, экологического, геополитического, демографического, с 2008 года — финансово-экономического и так далее, – заставляет задуматься о том, насколько современная культура человечества соответствует его долгосрочным потребностям.
Ни античный мыслитель Зенон Элейский, предвосхитивший исчисление бесконечно малых величин в парадоксе о быстроногом Ахиллесе, нспособном обогнать или даже догнать медлительную черепаху, ни Аристотель, разрешивший этот парадокс через понятие «границы», – разумеется, не могли предполагать, что занимавшая их проблема через две с лишним тысячи лет окажется проблемой выживания планетарной общности людей.
Ахилл бежит за черепахой. Наша повседневная деятельность вызывает бесконечно малые, но не бесконечно уменьшающиеся изменения. Рано или поздно мы перешагнем границу, отделяющую нас от катастрофы. Или уже перешагнули её?
Но, даже задавшись подобным вопросом, что каждый из нас может сделать с массовой вырубкой тропических лесов и тайги, с таянием вечной мерзлоты, с кислотными дождями, с голодом в Сахеле или с феноменом международного терроризма? Что каждый из нас может сделать с лагерной мудростью «умри ты сегодня, а я завтра», взятой на вооружение Западом и ярко проявленной при разрушении Советского Союза, при бомбежках Ирака, Югославии или Афганистана, в ходе нынешнего украинского конфликта? Что каждый из нас может сделать с вымиранием и деградацией населения собственной страны?
Для гибели человечества уже не нужна ядерная война – достаточно просто продолжать жить по-прежнему. Но что значит: жить иначе и как жить иначе? В чем должны заключаться необходимые изменения? Поиски ответа на эти вопросы привели в конце ХХ века к жесточайшему кризису нашего самосознания, нашей самоидентичности, который не преодолен и поныне. Различные формы проявления этого кризиса стоило бы рассмотреть подробнее, но к этому вопросу мы еще вернемся.
Кризис планетарной человеческой цивилизации, кризис межцивилизационных и внутрицивилизационных (межгосударственных, межэтнических, межконфессиональных и внутриконфессиональных) отношений, кризис общественной самоидентичности – вот чем, вкратце, обусловлен триединый социальный заказ, полученный мировой, а значит — и отечественной культурологией как научной дисциплиной. Выполнить его невозможно без проникновения в сущностные свойства современной мировой культуры, без выяснения движущих сил и закономерностей её развития.
Поэтому, если исходить из теоремы Геделя о неполноте, оказывается абсолютно необходимым выйти за границы обсуждаемой темы, на более высокий уровень абстракции — с целью выяснить, чем взаимодействие человека и, соответственно, человеческих сообществ с миром отличается от любых иных взаимодействий. Ранее нами незаметно был поставлен знак равенства между существованием, бытием человека в мире и его взаимодействием с миром. Так ли это?
Можно сказать, что существование любого объекта, любой системы объектов определяется наличием его взаимодействия с другими объектами и их системами. Не взаимодействуя с ними, объект не существует как целое. Взаимодействие между объектами осуществляется через их свойства, которые проявляются в этом взаимодействии, и одновременно приводит к непрерывному изменению самих объектов. Такая всеобщая форма взаимодействия известна в философии как принцип отражения.
Из самого факта непрерывной изменчивости всего сущего сам собой следует вывод о его внутренней, системной структурности. Объектная структура достаточной степени сложности может оказаться способной хранить в себе и воспроизводить следы подобных взаимодействий, что ведет к возникновению уже не просто отражения, но самоотражения, сознания. Поэтому взаимодействие человека с иными объектами обретает характер познания, а схема объект–свойства–свойства^–объект^ надстраивается, дополняется схемой сознание–чувства–свойства познаваемого объекта–познаваемый объект.
Тем самым понятие “культуры” становится понятием гносеологическим и выступает не только как способ взаимодействия с миром, но и как способ человеческого познания этого мира. Теория познания (гносеология) так или иначе исходит из различения и противоположенности субъекта и объекта познания. Но при этом такая противоположенность не может быть абсолютной. Иначе необъяснимой и – более того – невероятной окажется их связь, их взаимодействие между собой, т.е. само познание.
Отсюда следует наличие некоего объект-субъектного единства, кстати, данного каждому из нас в непосредственном ощущении собственного бытия. Осознание такого двойственного — или даже тройственного, объект-субъект-проектного — единства способно принимать самые разные формы, о чем, в частности, свидетельствует само существование истории как научной дисциплины, истории философии — в том числе.
Отмеченные в ней представления о субъектности, одушевленности внешнего, вещного мира являются, возможно, наиболее архаической и самой простой формой подобного осознания. Но здесь уже недалеко до вывода о том, что объект познания существует лишь постольку, поскольку существует его субъект.
Исторические вариации данного вывода, начиная с религиозных преданий о сотворении мира вплоть до «Cogito, ergo sum» («Мыслю, следовательно существую») Рене Декарта и нынешних трактовок роли наблюдателя в квантовой механике, – все эти вариации нет возможности здесь обсуждать подробно или хотя бы просто отдельно остановиться на них. Тем более нет возможности остановиться на производных обратной идеи: что субъект познания существует лишь постольку, поскольку существует его объект.
Очевидная зеркальность и, соответственно, равносильность этих идей позволяют, по состоянию на сегодня, развивать на их основе достаточно целостные гносеологические системы, выбор между которыми – по той же причине – происходит благодаря неким внешним факторам, чаще всего – практически социального характера, лишь переводимым в плоскость собственно гносеологии.
Имеет ли смысл уточнить приведенные выше положения, а именно: объект познания существует для субъекта лишь постольку, поскольку он для него субъектен, а субъект познания существует для объекта лишь постольку, поскольку он для него объектен? Во всяком случае, такое уточнение позволит нам сделать несколько следующих шагов, поскольку в гносеологии подобного типа не только возникает представление о двух планах существования: объектном и субъектном; не только двойственная природа человека окажется общей внешнему миру пока лишь в своей объектности, – но и сам процесс познания предстанет перед нами по преимуществу как процесс субъективизации внешнего мира, как формирование собственного мира, мира человека, или мира-для-человека, если воспользоваться терминологией немецкой классической философии.
Тем самым познаваемый нами мир есть, прежде всего, мир, перетекающий в субъектное бытие, в познанное из непознанного, из того Ничто, абстрактно мыслимой пустоты, которая никогда не наполняется и не может быть наполнена никаким действительным содержанием, ибо такое действительное содержание – атрибут познанного.
Этот процесс перетекания Ничто в Нечто трудно представить и еще труднее осознать, освоить, если забыть о субъектности данного процесса, о том, что субъектно непознанное Ничто есть объектное Нечто, взаимодействие с которым еще не переведено в субъектный план человеческого бытия, не осознано как существующее. Непознанному нет ни места, ни времени в познании – и всё же оно необходимо там присутствует: как всепорождающее и всепоглощающее Ничто, как актуальное инобытие для человека.
Но само познание как процесс исходит из познанного, отталкивается от него и воспроизводит его в каждом новом субъекте – с теми изменениями, которые привносятся деятельностью этого субъекта. Ведь познание – не абстрактно, оно прежде всего – деятельность, воплощаемая и реализуемая только в процессе человеческого бытия. Но гносеологический аспект культуры всё же не совпадает с ее онтологическим аспектом, хотя и в том, и в другом случае культура существует и как некий суммарный объем деятельно познанного человеком мира, и как форма, структура, организация этого деятельного познания.
Заход и восход солнца для Птолемея означали, нечто иное, чем для Галилея, и нечто третье – для Эйнштейна. «Я знаю только то, что ничего не знаю», – парадоксальная формула Сократа возникла из реальных противоречий процесса познания. По легенде, поясняя свой парадокс, философ якобы рисовал на земле круг, а внутри него – круг поменьше. Первый символизировал его нынешние знания, второй – знания прошлые. Но разве сравнимой была их площадь с поверхностью всей земли? Разве не ничтожны наши знания в сравнении с тем, чего мы не знаем? Но только узнавая что-то, мы узнаем, что не знаем ничего, поскольку границы нашего соприкосновения с непознанным при этом раздвигаются. Сходный образ можно найти у Исаака Ньютона, сравнившего себя с мальчиком, собирающим раковины и камешки на берегу, в то время как огромный океан лежит перед ним непознанный.
Путь от незнания к знанию характерен и для общества в целом, и для каждого человека в отдельности. Этот путь становится всё длиннее и длиннее. Образование, трансляция знания во всех его формах занимают всё большее место в деятельности человека. Такое «познание познанного» является необходимым для «познания непознанного», для выхода не только на субъективную, но и на объективную границу между знанием и незнанием. Преодолевая эту границу, человек преодолевает и отдельный, особенный характер своего знания, поскольку деятельностью своей начинает выражать уже родовую, всеобще-человеческую деятельность. Субъективно познаваемое становится познаваемым и объективно.
Если принять аналогию Сократа и попытаться представить культуру как присущий каждой конкретно-исторической общности людей особый круг объектов, явлений и процессов, вовлеченных в её бытие, то совокупность таких кругов, состоящих, в свою очередь, из совокупностей культур индивидуальных, личностных, – и образует общечеловеческую культуру.
Пока данные круги не пересекаются или пересекаются незначительно, понятие общечеловеческой культуры остается мыслимым абстрактно. Похоже, реальным содержанием (прежде всего — физиологическим) обладало оно, насколько можно судить по археологическим данным, в эпоху палеолита. Иным реальным содержанием наполняется оно сегодня.
По крайней мере, говоря о культуре ХХ века, мы вполне можем указать, о чем, о каких общих для всего человечества объектах и процессах идет речь. Но, говоря уже, например, о культуре ХVIII века, мы обязательно будем вынуждены вносить уточнения, о какой именно культуре: испанской, японской, русской или какой-либо ещё, — мы говорим. То же самое – с понятием, скажем, греческой культуры: без указания на конкретную историческую эпоху внести в него какое-то реальное содержание не удастся.
Отрицание всеобщей первобытной культуры, каковым явились культуры всех исторических обществ, в процессе развития постепенно приходит к собственному отрицанию: возникновению общечеловеческой культуры на новом, несравненно более сложном, уровне. Впервые обратили внимание на зависимость этого процесса от господствующего способа производства К.Маркс и Ф.Энгельс: «На смену старой местной и национальной замкнутости и существованию за счёт продуктов собственного производства приходит всесторонняя связь и всесторонняя зависимость наций друг от друга. Это в равной мере относится как к материальному, так и к духовному производству».
Проблема соотношения и взаимосвязи культуры со способом производства еще ждет своего исследования. В общих же чертах, определив культуру как способ человеческой деятельности, мы должны прийти к выводу, что способ производства в любом случае суть понятие более узкое, относящееся к понятию человеческой культуры как частное к общему, как элемент к целому. Иными словами, круг, обозначающий способ производства, должен охватываться кругом, обозначающим культуру.
Действительно, производство выступает лишь одним из проявлений жизнедеятельности человека. Его значение определяется способностью человека выделять и закреплять в практике ряд собственных действий не только и даже не столько по их конкретному результату, сколько по результату опосредованному, отдаленному в пространстве и во времени, о результату идеальному. Согласно известной формулировке К.Маркса, самый плохой архитектор от самой лучшей пчелы отличается тем, что заранее имеет в голове план своей постройки.
Но такое моделирование действительности касается не только связей «человек-мир», оно необходимо перетекает и на связи между предметами и явлениями действительности. Все эти связи опосредуются факторами процессуальными, т.е. пространственно-временными и причинно-следственными, а также факторами ассоциативными (аналогическими): по сходству свойств и характеристик объектов и явлений в их отношении к человеку как субъекту познания.
Направленная таким образом деятельность по созданию условий для удовлетворения тех или иных человеческих потребностей и есть труд. Но сам по себе процесс труда еще не гарантирует потребления, т.е. удовлетворения вызвавших его потребностей результатами или продуктами труда, а потому выступает двояко: как труд производительный и труд непроизводительный. Производительный труд, производство оказывается не только высшей ценностной формой человеческой деятельности, но и формой, наиболее зависимой от способности человека предвидеть результат своих действий, т.е. осознавать их.
В свое время тот же К.Маркс, характеризуя способ производства, отмечал, что общество определяется не тем, что оно производит, а тем, как оно производит. Но в последнее понятие марксистская традиция включала и включает лишь производительные силы и производственные отношения. Тем самым из рассмотрения исключаются все иные аспекты человеческой деятельности, не имеющие статуса производственных и даже трудовых, но тесно связанные с ними в рамках единой культуры и способные сильно влиять на дальнейшее развитие процессов производства/потребления.
Подобная теоретическая установка не только способствовала самодовлеющему вычленению материального производства из структуры человеческой деятельности и рассмотрению такого производства как самодостаточного явления, – она привела к отождествлению культуры со способом производства, целого с частью. На практике это проявляется тем, что продуктом труда признается, скажем, выплавленный из руды металл, зато отвалы пустой породы или шлака, возникшие в результате того же трудового процесса, продуктом труда не признаются и как бы не существуют. В итоге вся нынешняя цивилизационная модель работает на свалку и пустыню – фальсифицированная система ценностей (аксиология) способа деятельности дает чудовищные плоды.
Но сама аксиология культуры существует и развивается на основе иной структуры взаимодействия человека с действительностью,– структуры, которая является следствием двойственной, субъектно-объектной природы человека. Известная ленинская формула: «От живого созерцания к абстрактному мышлению, а от него к практике»,– эту двойственность не различает, поскольку охватывает деятельность (и познание) предметно-логические, рассматривающие объекты, процессы, явления как таковые. Другими словами, это определение касается познания человеком объект-объектных отношений, т.е. взаимодействий между объектами, процессами, явлениями, взятыми в отношении друг к другу и к самим себе. Это – самая фундаментальная, самая "спокойная" область человеческой деятельности: действие равно противодействию, скорость света в вакууме постоянна, при сжигании водорода в кислородной атмосфере образуется вода, по одной кости восстанавливается полный скелет животного, а по форме каменных орудий определяется эпоха, в которую они были созданы.
Иное дело – познание эстетическое, при котором некий объект не только представлен в ином объекте (например, бизон – в наскальном рисунке охрой и углем), но и взят в отношении к отражающему субъекту. Такое выделенное субъект-объектное отношение проявляется и в выборе значимых элементов (свойств) отражаемого объекта, и в воплощении (моделировании) этих свойств уже в иных отношениях, чем они даны в действительности.
Это и есть субъективная сторона эстетической формы познания, важнейшая причина того, что никто не смог бы по сохранившемуся фрагменту полотна воспроизвести, скажем «Джоконду» Леонардо да Винчи или же «восстановить» голову Ники Самофракийской. Тем самым искусство дает начало очеловечиванию мира, уже познанного в предметно-логической деятельности. «Всё сущее – вочеловечить!» – слегка измененные стихи Александра Блока явственно выражают суть эстетического, «второго» познания, подготовляющего равноправный диалог человека с миром.
Наконец, этическая форма познания охватывает субъект-субъектные отношения, возникающие в том случае, если объект познания в процессе взаимодействия с ним проявляет свойства, которые системно могут быть присущи только субъекту. Здесь необходимо отметить, что набор таких свойств и качеств исторически изменчив. В первобытном обществе прошлого и в примитивных обществах современности свойствами субъекта наделяются не только животные, но и растения, явления природы и даже неживые предметы. С переходом к рабовладению, с дифференциацией общественного положения людей совершилось и отрицание все-субъектности первобытного сознания. Показательна в этом отношении характеристика Аристотелем рабов как «говорящих орудий».
А.Ф.Лосев детально рассмотрел истоки подобных воззрений, а также их тесную связь с предшествующей общественно-экономической формацией, особо указывая на принципиальную недостаточность фигуры рабовладельца как субъекта и на присущие античности попытки чем-то компенсировать подобную недостаточность. Строго говоря, именно с периода возникновения социального неравенства, перехода от всеобще-субъектного к единично-субъектному, начат и продолжается поиск особенно-субъектного: человека, личности в ее целостности.
Разъединенность, отдельность, отчуждение человека от человека неизбежно сужают само понятие «человек» и количественно, и качественно. Возникает образ «недочеловека»: «подобного, но не равного», — т.е. для каждой группы людей существуют иные группы, исключенные из этических, субъект-субъектных отношений: «не-люди», «враги». Наличие такого "образа врага" можно проследить, начиная уже с древнейших обществ. Но именно этическая форма познания, будучи самой интимной, самой «узкой» и высшей из всех его форм, самой растворенной в человеческой деятельности,– связывает формальную структуру способа деятельности с его аксиологической структурой.
Таким образом, познание осуществляется в трех взаимосвязанных и взаимопроникающих формах: предметно-логической (научной), эстетической и этической. Отношения, связи и взаимодействия, которые возникают между этими формами познания, равно как и объем освоенной ими действительности, являются специфическими характеристиками любой человеческой общности и составляют понятие «культуры». Продолжая нашу аналогию, можно изобразить их в виде трех концентрических, вложенных друг в друга кругов, внешний из которых представляет предметно-логическую деятельность, внутренний – этическую, а промежуточный – эстетическую.
Если исходить из этого представления о формах познания как некоторых составляющих единого способа познания, то мы должны отметить, что общий объем человеческого знания определяется объемом знания предметно-логического, а эстетика и этика, даже в самых фантастических своих вариантах, следуют за ним. Но данный факт вовсе не означает, будто развитие этики всегда идет медленнее, чем развитие эстетики, а последней, в свою очередь, медленнее, чем развитие предметно-логического знания. Такое положение верно лишь в принципе, в пределе, но не верно для каждого конкретного культурно-исторического сообщества. Напротив, даже в самом «отставании» этики от эстетики, а эстетики — от предметно-логического, объект-объектного знания заложена возможность их ускоренного развития, ибо тем самым накапливается материал и создается свободное пространство для такого ускорения.
В качестве примера можно указать на явное преобладание этической компоненты в культуре ранних христиан, когда возможности предметно-логического познания античного общества, основанные на господствующем способе производства, были во многом исчерпаны, а границы эстетически освоенного мира практически совпадали с границами мира, освоенного предметно-логически (вспомним хотя бы поэмы Вергилия и Лукреция Кара), а потому развитие касалось в первую очередь этики как таковой.
Очевидно, что основной чертой современной культуры является относительное отставание эстетического и этического познания от познания предметно-логического. Такая ситуация имеет, по крайней мере, два следствия. Одно, ближайшее: эстетическая деятельность становится все более эстетической и все менее деятельностью, что проявляется на практике вращением в кругу давно известного и освоенного (различные виды модернизма и «постмодернизма»). Второе, отдаленное следствие: неизбежность ускоренного развития эстетики после окончания данного периода, когда искусство станет прежде всего познанием.
Судя по всему, мы стоим на пороге такой «эстетической революции», необходимо предшествующей революции этической. В известной нам истории человечества это будет еще одна эстетическая революция глобальных масштабов, когда человеческая деятельность в целом станет характеризоваться преобладанием эстетической, художественной компоненты. В этом отношении чрезвычайно показательно распространение дизайна буквально на все современное производство, а «стилистики субкультур» — на всё современное человеческое сообщество.
Именно расширение эстетически освоенного мира обеспечит возникновение новой этики, столь необходимой нам сегодня. Ведь, только "пройдя" через эстетическое познание из предметно-логического, объект может попасть в круг этической деятельности. Такое включение в нее всё новых объектов, процессов, явлений приводит к расширению понятия субъекта. Субъектность уже признается за природными системами. Признается не в том смысле, что, скажем, лес наделяется способностью к мышлению, эмоциям и т.д. (такие допуски характерны больше для эстетики), а в том смысле, что изменяются сами критерии субъектности.
Человек признаёт за природой равноправность себе уже не только в сознании, – он начинает строить свою деятельность, исходя из интересов не исключительно своих личных или «своей» общности, но также – из в некотором смысле осознанных им интересов той или иной природной системы и природы в целом. Тем самым его деятельность становится поведением, а вся система, условно говоря, субъективизируется. Формируется своеобразная «космическая этика», необходимо присущая новому способу производства, который, по аналогии с господствующим последние 10-12 тысяч лет неолитом («эпохой новых камней», то есть металлических орудий и сырья для их производства), можно назвать ноолитом («эпохой умных камней», то есть полупроводников и сверхпроводников, необходимых для производства ноосферы).
Приложение 2.
Мифологизация истории как феномен политического сознания.
Светлой памяти Вадима Валериановича Кожинова посвящается
«История — непрерывное настоящее». Всякое историческое исследование представляет собой цепь или сеть событий, выделенных историком из потока доступных ему фактов и документов общественной жизни. История — лишь модель, лишь образ прошлого, а потому всегда — только приближение к истине. Неизбежный отрыв научно-исторического образа от действительности несет в себе принципиальную возможность искажения последней. Но искажение системное, фальсификация истории невозможны без заинтересованности в них определенных общественных сил: господствующих или стремящихся к господству. В рамках подобной фальсификации, как правило, не только замалчиваются, исключаются из модели прошлого те события, которые не укладываются в нее. Это лишь одна сторона фальсификации. Вторая заключается в том, что параллельно происходит раздувание, преувеличение иных, соответствующих ей фактов — даже если подобные факты существовали в ином качестве или не существовали вообще. Когда же эти псевдофакты в качестве структурообразующих элементов включаются в различные формы классово-политического сознания, то они обретают статус мифологем, своеобразных «фразеологизмов мышления», поскольку в превращенном виде отражают свойственную данной общности систему ценностей.
Необходимо заметить, что понятие «мифа» не следует воспринимать лишь в качестве субъективной иллюзии, индивидуальной либо общественной. Миф понимается здесь прежде всего как системное и образное воплощение того уникального опыта, который присущ любой более-менее устойчивой и замкнутой социальной системе, от семьи до государства. Он предназначен для «пересказа», «предания», то есть передачи прежде всего. Это главная функция мифа. В зависимости от характера образов, миф может выступать либо эстетическим явлением (как воспринимаются сегодня практически все древние мифы), либо предметно-логическим (как воспринимается большинство мифов современных). При этом миф утрачивает неразрывность единичного и общего, становится либо предельно конкретным (мифология «семейных реликвий»), либо предельно всеобщим (мифология «картины мира»). Частным случаем последнего выступает и мифологизация истории.
1. Древний Рим — США
Существование подобного феномена в разные эпохи заставляет задуматься о его значении. Определяющая роль мифологизации истории в структуре общественного сознания достаточно полно изучена в отношении древнеримского общества и не вызывает сомнений у современных исследователей. Так, например, Н.А. Чистякова, анализируя типы античной художественной культуры, пишет: "Отношение к личности в Риме было изначапьно другим, так как Рим – помимо греческого влияния и до него – мифологизировал собственную историю".
"Политическое, моральное и даже религиозное сознание римского гражданина было всецело связано с историей, но всегда – заметим – не с историей "большого" мира, а с историей Города (Urbs) и своего народа. При всем своем универсализме,.. римляне больше патриоты, даже националисты, чем космополиты – во всяком случае, во времена республики и раннего принципата. И не удивительно, что предания собственной истории, легендарной и действительной, выступали у них в роли сакральных мифов, отчасти компенсируя бедность автохтонной мифологии. Эта своеобразная мифология "домашней" истории оказала на римскую культуру почти такое же могучее влияние, какое эллинская космическая мифология оказала на культуру греков. В поэзии, риторике, моралистике, в правовой теории, наконец, в историографии,– словом, везде, где проявил себя римский гений,– "exemplum domesticum" имеет для римлян такую же силу и значение, как для древних греков мифическая парадигма",– отмечает Г.Г. Майоров. Но тот же автор на примере трактата Цицерона "О старости" показывает, что пропаганда exemplum domesticum, возводимых в ранг устойчивых стереотипов общественного сознания, становится возможной и необходимой только при утрате ими реальных регулирующих функций. Тем самым мифологизация истории выступает и как экстериоризация, ритуализация этих стереотипов.
С нашей точки зрения, обращает на себя внимание относительная независимость исторических мифологем от реальных общественных отношений, определенная парадигматичность структуры политического (и общественного) сознания такого типа. И здесь доминирующая роль exemplum domesticum на фоне бедных культурных традиций явно сближает древнеримское и современное американское политическое сознание.
Так, типологически сходно значение легенды о первых колонистах "Мэйфлауэра" с легендой об Энее. И в том, и в другом случае гонимые предки, средоточие всяческих добродетелей, ступают на "новую землю", предназначенную для них высшими силами. Американский истэблишмент долгое время был склонен вести свое происхождение именно от набожных первопоселенцев, положивших начало могуществу Соединенных Штатов. В частности, 12-й президент США Закари Тейлор относил это обстоятельство к числу своих достоинств. О той же ситуации, только применительно к древнеримскому обществу, свидетельствует в фундаментальной монографии "Принципат Августа" Н.А. Машкин: "Со времен Суллы многие аристократические роды ведут свое начало от Энея и его спутников... Религиозный Эней является тем идеальным римлянином, который должен был служить примером для подражания. "Pius" (благочестивый) – постоянный эпитет Энея".
Мифологизированные образы прошлых и современных правителей, т.е. личностей, властвующих в обществе, также обнаруживают ряд сходных черт. "Гражданам США всегда внушали мысль, что важнейшую и решающую должность в стране должны занимать люди незаурядные",– отмечает Э.Пессен: "Жизнь президентов служит примером и стимулом для подрастающего поколения... доказательством того, что честный труд не принижает человека, что высшие гражданские почести доступны трудолюбивым и целеустремленным". Биографии президентов, как правило, представляют собой описание "бедного, но честного малого", "одного из нас", восходящего благодаря своим личным качествам к вершине политической власти. Тем самым институт президентства рассматривается как воплощение "американской мечты", как реализация тех ценностей, носителями которых были колонисты "Мэйфлауэра".
Точно так же официальный источник "Res gestae diui Augusti" доказывает, что своей деятельностью Август воплотил в жизнь основные черты идеального римлянина: virtus, pietas, iustitia, clementia (мужество, благочестие, справедливость, мягкосердечие). "Август питал несомненный интерес к элогиям знаменитых римлян, которые были возобновлены и даже заново составлены, причем наряду с подлинными элогиями видных республиканских деятелей появились элогии легендарных царей, включая Энея".
Существует и сходство между мифологизированными образами Джорджа Вашингтона и Катона Старшего. "Миф о Дж.Вашингтоне призван обосновать единство американской нации и ее отличие от других наций... Как-то на день рождения маленькому Джорджу подарили топорик. Чтобы испытать свое новое орудие, он срубил одно из вишневых деревьев своего отца. Тот спросил его, не он ли погубил дерево. Джордж ответил: "Я не могу солгать, отец! Я срубил его своим топором!" Вишневое дерево... воплощает поэтическое воспоминание о старом отчем доме, о европейской цивилизации... Вашингтон, лидер революции, срубает дерево старой цивилизации, что символизирует освобождение Америки от протекционизма Англии. Мальчик, срубивший дерево, сам становится символическим отцом-основателем новой страны, новой культуры. Миф о вишневом дереве для американцев – это весьма развернутое определение их морального кодекса. Американцы вольны делать что угодно для достижения собственных целей. Но при этом важно соблюдать честность – она искупает вину",– пишет П.С. Гуревич. Но столь же откровенно и последовательно действовал герой Римской республики Катон Старший, а его фраза "Carthaginem esse delendam!", которой он, по преданию, завершал каждую речь в сенате (кстати, институт, существующий и в США),– ещё более знаменита, чем признание Дж. Вашингтона.
Сама концепция Pax Americana во многом перекликается с концепцией Pax Romana, a "конец истории", предложенный Ф. Фукуямой – с "золотым веком" императора Августа. Специфически сближающей чертой выступает культурная экспансия Америки и Рима, использование апологетической "массовой культуры" как средства господства в общественном сознании других народов и стран. Эта черта особенно интересна в связи с глубинным "культурным вакуумом" порождающего ее общества и, как следствие, развитием "мозаичной культуры". Но основное, сближающее данные концепции, сходство заключается в сознательной консолидации различных групп господствующего класса против классов угнетенных. Здесь "план Маршалла" оказывается вполне созвучным реформам первых Цезарей.
И поразительное сходство между системой исторических мифологем Древнего Рима и мифологией современных США не может быть случайным. Это сходство может быть вызвано тем, что «общественное сознание всех веков... движется в определенных общих формах, в формах сознания, которые вполне исчезнут лишь с окончательным исчезновением классов».
Поэтому мифологизация истории как феномен политического сознания является одним из важнейших проявлений поляризации общества, поскольку дает обоснования для замены закона «исторической традицией», чаще всего - вымышленной. А усиление исполнительной власти, её примат над властью законодательной, как показал ещё К. Маркс в работе «18 брюмера Луи Бонапарта», свидетельствует именно о нарастании социальных противоречий. Это ментальное сопровождение процесса хаотизации общества ясно прослеживается и в деятельности современных отечественных «демократических сил».
2. Новый Рим — Россия.
Следует сказать, что отечественное историческое сознание со времен начального летописания также не свободно от мифологизации. Так, Л.Н. Гумилев доказывает, что уже в «Повести временных лет» рассказано о вымышленном походе киевского князя Олега на Царьград (Константинополь) в 907 году, замалчиваются истинные причины гибели князя Святослава Игоревича и его дружины, искажается хронология хазарского владычества в Киеве и т.д. Известно также, что Иван Грозный собственной рукой правил неоконченный «Лицевой свод» — парадную летопись своего царствования. Тем самым косвенно признается несоответствие реальной истории русской государственности некоему нормативному представлению о ней — представлению, несомненно, изменявшемуся с течением времени.
Отсюда очевидна необходимость крайне взвешенного и скрупулезного подхода к материалу, представляемому отечественными летописями. Тем не менее, основной для нас вопрос заключается не в том, происходила или нет мифологизация истории в русском политическом сознании — конечно, она происходила и не могла не происходить, поскольку «образ прошлого» неизбежно вступал в противоречие с новым опытом и новой системой ценностей. Вопрос в том, какое место занимала она в структуре этого сознания. Учитывая, что славянская (церковнославянская) письменность вообще и летописание в частности имеют ромейское («византийское») происхождение, необходимо выявить, насколько заимствована и соотносима мифологизация русской истории с ромейским вариантом.
Существование последнего также не вызывает сомнений — особенно в связи с наличием предшествующей древнеримской традиции, «обогащенной» эллинизированными восточными верованиями и опосредованной христианской мифологией. Более чем тысячелетняя история Восточноримской империи (Ромейского Царства) в этом отношении весьма слабо изучена, поскольку христианская парадигма «симфонии властей» в ее «византийском» варианте, реализованном прежде всего царствованием Константина Великого, на протяжении всего этого периода оставалась, по сути, неизменным лекалом, на которое накладывалось всякое новое царствование. «Катехон» (удерживающий) и «канонизация» (причисление православной церковью к лику святых) — выступали основными характеристиками власти ромейских царей в историческом времени. Не прошедший канонизацию властитель, по сути, утрачивал право именоваться «катехоном» в вечности. Именно поэтому византийская агиография в той части, которая посвящена святым носителям «империума», может считаться гораздо более существенным проявлением мифологизации истории, чем творения придворных византийских историков, ориентированных на следование «светским» образцам античности,— например, таких, как Лев Диакон или Михаил Комнин.
Иными словами, образ Царя как святого воина-правителя, канонизированного Церковью, которая, в свою очередь, совокупно выступает как освящённое Святым Духом Тело Христово, символически повторяет в историческом времени образ предвечного Христа, Богочеловека. В этой модели мышления все собственно «человеческие» слабости правителя могут отступать на второй план — подобно тому, как в евангельской традиции отступают на второй план и становятся бессмысленными все упреки фарисеев Христу, что «Сын человеческий» не соблюдает субботы и делит трапезу с мытарями и блудницами.
В этой связи можно сказать, что сам феномен мифологизации истории в его отечественном варианте изначально имел не столько «земной», сколько «небесный» вектор, где исторические события (реальные или вымышленные — неважно) получали свое сверх-значение только через «оправдание верой» и «спасение души». «Слова» и «жития» — два самых распространённых литературных жанра на Древней Руси. При этом «слово" исходило, что называется, «от первого лица», а «житие» представляло собой, в сущности, «безличный», «с точки зрения вечности», уложенный едва ли не в канонические рамки рассказ о подвигах того или иного святого.
«Въ началѣ бѣ Слово» — гласит «церковнославянский» текст Евангелия от Иоанна [Ин. 1:1], переведенный на «современный русский» в «синодальном» издании как «В начале было Слово». Еще раз стоит обратить внимание читателей на несовершенство и неточность подобного перевода, невольно (или вольно?) относящего всё сказанное к некоему прошлому времени и, соответственно, к некоему всеобщему «началу». А в первичном для нас «церковнославянском» варианте слово «бѣ» означает нечто принципиально иное — то, что «было, есть и будет», а следовательно, и «Слово», о котором идёт речь в Евангелии, не «было» когда-то, «в начале времен», а «было, есть и будет» в начале всего, что совершалось, совершается и будет совершаться в мире. Разница смыслов здесь совершенно очевидна, и она, видимо, во многом объясняет уникальность мировосприятия древнерусского православия, явленного в дошедших до наших дней «словах» и «житиях».
В качестве примера можно привести следующий отрывок из знаменитого «слова» князя Владимира Мономаха к Олегу Святославичу, датированного 1097 годом: «Господь наш не человек, но Бог всей вселенной,— что захочет, во мгновение ока все сотворит,— и все же Сам претерпел хулу, и оплевание, и удары, и на смерть отдал Себя, владея жизнью и смертью. А мы что такое, люди грешные и худые? — сегодня живы, а завтра мертвы, сегодня в славе и чести, а завтра в гробу и забыты,— другие собранное нами разделят.
Посмотри, брат, на отцов наших: что они скопили? ...Только и есть у них, что сделали душе своей...
Не от нужды говорю я это, ни от беды какой-нибудь, посланной Богом, сам поймешь, но душа своя мне дороже всего света сего.
На Страшном Суде без обвинителей сам себя обличаю».
Мы видим здесь совершенно иное время: измеряемое не столько «летами» и встроенными в них событиями как линейным множеством, сколько, используя позднейший термин Лейбница, «монадой» человеческой души, прямо соотнесённой со всегда открытой для неё через Христа и во Христе вечностью. От этой монады, от её «жизни-жития» только и может исходить «слово» как некий изначальный импульс, «дерзающий» открыть вечность не только для неё самой, но и для способных вобрать это «слово» душ других людей: родственников, единоверцев и т.д...
Иначе говоря, здесь мы встречаемся с принципиально иным типом мифологизации истории, нежели тип «западный», охарактеризованный в первом разделе настоящей работы. Более того, здесь мы встречаемся с принципиально иным типом самой истории, совершающейся прежде всего как история именно «оправдания верой» и «спасения души», а вовсе не история завоеваний, в том числе завоеваний независимости, свободы, власти, богатства и прочих благ «мира сего». Высшие нравственные ценности здесь совершенно иные.
Чтобы убедиться в этом, достаточно, например, сравнить оценку англичанами своего короля Генриха VIII, французами — Карла IX, и русскими — того же Ивана Грозного, на что справедливо указывал В.В. Кожинов. И это далеко не случайность — наряду с мифом об Иване Грозном, существуют не менее красочные мифы о Петре Первом или Иосифе Сталине (впрочем, последний — более-менее примитивная копия действительно народных образцов). Иным образом в тот же ряд встраиваются легенды о погибших мученической смертью, но «спасших душу свою» князьях Борисе и Глебе — первых собственно русских святых.
В двоической западной логике (догмат filioque — оттуда же, из двоичности мышления самых последовательных умов Запада) это обстоятельство порождает представления о «жертвенности» и «пассивности» русских как народа вообще, а также о желательности для них той или иной формы «насилия» и «насильственной организации» (по чужеземным, надо полагать, образцам) со стороны государственной власти. Трёхмерная цельность русской души, проецируясь в это двумерное, «плоскостное» мышление, неизбежно выглядит «совмещением несовместимого», некоей загадкой и даже тайной, которая сама себя хранит.
Чтобы подчеркнуть разницу нравственных ценностей, определяющих поведенческие реакции, можно привести и пример «от противного», задавшись вопросом: как стать врагом русского человека? Ясно, что для этого мало покушаться на его дом, на его имущество, даже на его родных и близких, даже на саму его жизнь. Для этого нужно стремиться «погубить его душу» или, что для традиционного русского сознания то же самое, «погубить его веру», разрушить вечную «монаду» его Слова и его жития. И только если такое стремление проявляется очевидно и бесспорно, силы и люди, его несущие, воспринимаются как враги — со всеми вытекающими отсюда и страшными для них последствиями. «Русские долго запрягают, но быстро ездят»,— на метафорическом, образном уровне характеризовал эту особенность «железный канцлер» Пруссии Отто фон Бисмарк.
Вместо заключения.
Рассматривая и сопоставляя типы мифологизации истории, присущие соответственно современному американскому и современному русскому сознанию, можно наблюдать заметную модификацию и деградацию последнего, его сближение с американскими стандартами мышления, которые активно распространяются через мощную систему мировых масс-медиа, обеспечивая не только информационную, но и трансформационную составляющую «войны ценностей». Вместе с тем сам перенос военных действий из сферы земного (и околоземного) пространства в сферу сознания, в сферу Слова как такового,— вынужденно активизирует адаптивные процессы русского бытия в этой сфере, аналогичные периоду «распознавания врага» и отступления в ходе «обычных» исторических войн. Не исключено, что подобный период окажется достаточно длительным (он уже затянулся на несколько десятилетий). Но, поскольку бои ведутся уже в пространстве русского Слова, то есть втянуты в его пространство, их исход, по большому счету, предопределён и неизбежен.
[1] Аникин В.П. Д.Н.Садовников и его сборник загадок// Загадки русского народа. Сост. Д.Н.Садовников. — М.: Изд-во МГУ, 1959.– с.17.
[2] Афанасьев А.Н. Живая вода и вещее слово.– М.: Сов. Россия, 1988.– с.61
[3] Тайлор Э.Б. Первобытная культура. — М.: Политиздат, 1989. — с.80.
[4] Садовников Д.Н. Загадки русского народа. — СПб, 1876. — с.IV.
[5] Шкловский В.Б. Искусство как приём// Поэтика. Сборник по теории поэтического языка. — Пг., 1919. — с.111
[6] Соколов Ю.М. Русский фольклор. — М.: Учпедгиз, 1938. — с.217
[7] Чичеров В.И. Русское народное творчество. — М.: Изд-во МГУ, 1959. — с.322
[8] Аникин В.П. Цит.раб., с.18
[9] Митрофанова В.В. Русские народные загадки. — Л.: Наука, 1978. — с.133.
[10] Берестов В. Даль становится ближе // "Лит. газета", 16 ноября 1994 г.
[11] Шкловский В.Б. Тетива. О несходстве сходного// Избранное, в 2-х т.т., т.2. — М.: Худ. лит., 1983.– с.54.
[12] Литературный энциклопедический словарь.– М.: Сов. энц., 1987. — с.109.
[13] Топоров В.Н. Из наблюдений над загадкой.// Загадка как текст. — М.: Индрик, 1994. — с.107.
[14] Ковалёва И.И. ́άινιγμα в греческой традиции: семантика и функции.// Слово в контексте литературной эволюции: античность — Средние века — Возрождение. — М.: Наука,1989.
[15] Oxford's English Dictionary
[16] Кёнгэс-Маранда Э. Логика загадок// Паремиологический сборник. — М.: Наука, 1978. — с.253
[17] Топоров В.Н. Цит. раб., с.89.
[18] Асмус В.Ф. Иммануил Кант. — М.: Наука, 1979. — с.32.
[19] Кант И. Критика чистого разума.// Философское наследие, т.1. — М.: Мысль, 1994.
[20] Кликс Ф. Пробуждающееся мышление. История развития человеческого интеллекта. — К.: Выща школа, 1986. — с 147-148
[21] Маркс К. Капитал, т.1, гл. V // К.Маркс, Ф.Энгельс, Соч., изд.2-е, т. 32, с. 258
[22] — После того — не значит вследствие того (лат.)
[23] Петров М.К. Язык, знак, культура. — М.: Наука, 1991. — с.43.
[24] Петров М.К. Цит. раб., с. 44-45
[25] см. Приложение 2 "Мифологизация истории как феномен политического сознания"
[26] Пропп В.Я. Русская сказка. — Л.: изд-во ЛГУ, 1984, с.46,
[27] Тронский И.М. Античный мир и современная сказка. — в кн. "С.Ф. Ольденбургу". — Л.: изд-во ЛГУ, 1934, с.534
[28] Афанасьев А.Н. Поэтические воззрения славян на природу, Поэтические воззрения славян на природу: Опыт сравнительного изучения славянских преданий и верований в связи с мифическими сказаниями других родственных народов. В трёх томах, т.1 — М.: Современный писатель, 1995 — с.58-59.
[29] Платон. Апология Сократа. // Собр. соч. в 4 тт., т.1. — М.: Мысль, 1990. — с.74
[30] Татий Ахилл. Левкиппа и Клитофонт. — М.: Всемирная литература, 1925
[31] Плутарх. Сравнительные жизнеописания. — М.: Правда, 1990
[32] Штаерман Е.К. Социальные основы религии Древнего Рима. — М.: Наука, 1987. — с.73.
[33] Цицерон Марк Туллий. Речи. — М.: Изд-во АН СССР, 1962. — с. 187.
[34] Машкин Н.А. Принципат Августа. — М.: Изд-во АН СССР, 1949. — с.560, 566.
[35] Ливий Тит. История Рима от основания города. — М.: Наука, 1989. — с.14.
[36] Жребий брошен (лат.)
[37] см. Приложение 3
[38] Щуцкий Ю.К. Китайская классическая книга перемен "И Цзин". — М.: РКТ, 1993, с.118.
[39] Трактат "Шо гуа" из "И цзин" ("Книга Перемен"). // в кн. Человек как философская проблема: Восток — Запад. — М.: Изд-во УДН, 1991. — с.239-240.
[40] Цит. изд. — с.244
[41] Лукьянов А.Е. От родового субъекта к "совершенномудрому" человеку и "сыну правителя". — Цит. изд. — с.25.
[42] Кобзев А.И. Особенности философской и научной методологии в традиционном Китае. // Этика и ритуал в традиционном Китае. — М.: Наука, 1988. — с.83.
[43] Аронов Р.А. Пифагорейский синдром в науке и философии. — "Вопросы философии", 1996, № 4, с.136.
[44] Чанышев А.Н. Курс лекций по древней философии. — М.: Высшая школа, 1981. — с. 140.
[45] Лосев А.Ф. История античной эстетики. Последние века. Кн.1. — М.: Искусство, 1988. — с.162.
[46] Зинин С.В. Мантические ритуалы БУ и ШИ в эпоху Чунь Цю (VII-V в. до н.э.). // в кн. "Этика и ритуал…" — с. 157-158.
[47] Фрейденберг О.М. Миф и литература древности. — М.: Наука, 1978. — с.20
[48] После того — значит вследствие того (лат.)
[49] См. "красное и синее смещение жанра загадки"
[50] Дандис А. О структуре пословицы. // Паремиологический сборник. — М.: Наука, 1978. — с.22.
[51]
[52] Иванов Вяч. Вс. Культурная антропология. // Одиссей. Человек в истории. — М.: Наука, 1989. — с.14.
[53]
[54] Ярхо В.Н. Трагический театр Софокла. // Литературное наследство. Софокл. Драмы. — М.: Наука, 1990. — с.468.
[55] Ярхо В.Н. Цит. раб. — с.546.
[56] Борхес Х.-Л. Стыд истории. // Письмена Бога. — М.: Республика, 1992. — с.108-109.
[57] Апт С.К. Театр Софокла. // БВЛ, Античная драма. — М.: Худ. лит., 1975. — с.
[58] Софокл. Драмы. — М.: Наука, 1990. — с.456.
[59] Софокл. Цит. изд. — с.19.
[60] Софокл. Цит. изд. — с.403.
[61] Аникин В.П. Д.Н.Садовников и его сборник загадок. // Загадки русского народа. Сост. Д.Н. Садовников. — М.: Изд-во МГУ, 1959. — с.24.
[62] Митрофанова В.В. Русские народные загадки.— Л.: Наука, 1978.— с.111-112.
[63] Козлов С.Я. Тайные ритуальные общества в Западной Африке (к характеристике социальных функций).// Религии мира, 1983.— М.: Наука, 1983. — с.150.
[64] Козлов С.Я. Цит. изд.— с.151.
[65] Токарев С.А. Религия в истории народов мира. — М.: ИПЛ, 1986. — с.46.
[66] Токарев С.А. Цит. изд. — с. 59.
[67] Загадко-пословицы и проблема паремиологической трансформации.// Паремиологический сборник. — М.: Наука, 1978. — с.317.
[68] Пермяков Г.Л. Основы структурной паремиологии. — М.: Наука, 1988. — с.82–83.
[69] Пермяков Г.Л. Цит. изд. — с.215.
[70] Пермяков Г.Л. Цит. изд. — с.100.
[71] Пермяков Г.Л. Цит. изд.— с.94
[72] Пермяков Г.Л., Цит. изд. — с.87
[73] Загадко-пословицы и проблемы паремиологической трансформации. // Паремиологический сборник. — М.: Наука,1978. — с.318.
[74] Цит. изд. — с.318.
[75] Цит. изд.– с.315–316.
[76] Кёнгэс-Маранда Э. Логика загадок.// Цит. изд. — с.261.
[77] Кёнгэс-Маранда Э. Цит. изд. — с.279–280.
[78] Митрофанова В.В. Русские народные загадки. — Л.: Наука, 1978. — с.10.
[79] Афанасьев А.Н. Цит. изд. — с.5
[80] Елизаренкова Т.Я., Топоров В.Н. О ведийской загадке типа "brachmodya".// Паремиологические исследования.– М.: Наука, 1984.– с.с. 21, 23.
[81] Смирницкая О.А. Поэтическое искусство англосаксов.// Древнеанглийская поэзия.– М.: Наука, 1982.– с.273.
[82] Оглоблин А.К. Типы яванских загадок.// Паремиологические исследования.– М.: Наука, 1984.– с.81.
[83] Елизаренкова Т.Я., Топоров В.Н. Цит. изд.– с.40.
[84] Белов В.И. Лад. Очерки о народной эстетике.– М.: Мол.гвардия, 1982.– с.354.
[85] Митрофанова В.В. Русские народные загадки.– Цит.изд. – с.19.
[86] Мазурик В.П. Японская загадка: общее и специфическое.// Паремиологические исследования...– с.65.
[87] Бахтин М.М. Вопросы литературы и эстетики.– М.: Худ.лит., 1975.– с.234–235.
[88] Бахтин М.М. Цит. изд.– с.400–401.
[89] До опыта (лат.)
[90] Митрофанова В.В. Цит. изд.– с.115–116.
[91] Левин Ю.И. Семантическая структура загадки.// Паремиологический сборник.– М.: Наука, 1978.– с.283.
[92] Уфимцева А.А. Знаковые теории языка.// Лингвистический энциклопедический словарь.– М.: Сов. Энц., 1990.– с.168.
[93] Бирюков Б.В. Знак.// Философский энциклопедический словарь.– М.: Сов.Энц., 1988.– с.191.
[94] Чертов Л.Ф. Знаковость.– СПб.: Изд. СПбУ, 1993.– с.329.
[95] Фриш К. Из жизни пчёл. — М.: Мир, 1980. — с.132-135.
[96] Павлов И.П. Проба физиологического понимания симптомологии истерии. — Л.: Изд-во АН СССР, 1932. — 36 с.
[97] Энгельс Ф. Роль труда в процессе превращения обезьяны в человека.// Маркс К., Энгельс Ф., Соч., изд. 2-е, т.20, с.487.
[98] Баландин Р.К., Бондарев Л.Г. Природа и цивилизация.– М.: Мысль, 1988.– с.90-91.
[99] Брей У., Трамп Д. Археологический словарь: пер. с англ.– М.: Прогресс, 1990.– с.55-56.
[100] Цит. изд.– с.247
[101] Яглом А.М., Яглом И.М. Вероятность и информация.– М.: Наука, 1973.– с.184.
[102] Хейзинга Й. Осень Средневековья.– М.: Наука, 1988.– с.223.
[103] Шмаков В. Великие арканы Таро; репринт.– К..: София Ltd., 1993.– с.160.
[104] Степанов Г.В. Формы существования языка.– в ст.: Язык.// БСЭ, т.30.– М.: Сов.энц., 1978.– с.465.
[105] Леви-Строс К. Первобытное мышление.– М.: Республика, 1994.– с.343.
[106] Леви-Строс К. Первобытное мышление.– М.: Республика, 1994. – с.284.
[107] Митрофанова В.В. Цит.изд. – с.104.