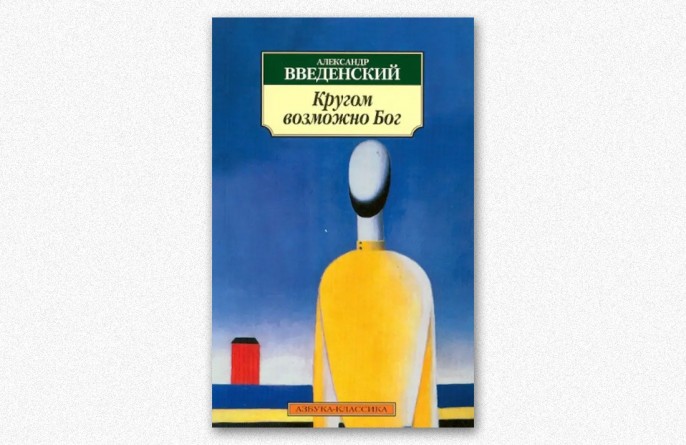Пока длиться земная жизнь, человек по мере её прохождения от рождения до смерти может выработать какие-то более или менее приемлемые для себя способы существования внутри ее. Которые, однако, как правило не оправдывают себя после того, как он расстаётся с земным миром, в особенности – на первых стадиях перехода к миру загробному. Эту обыденную, в общем-то, ситуацию пробует исследовать поэт Александр Введенский в мистериальной поэме «Кругом возможно Бог», опорными столбами которой стали приспособленные для её сюжета сильно переосмысленные эпизоды из Откровения Иоанна Богослова. Из него же ей мог быть предпослан эпиграф: «…ты носишь имя, будто жив, но ты мертв. Бодрствуй и утверждай прочее близкое к смерти; ибо Я не нахожу, чтобы дела твои были совершенны пред Богом Моим. Вспомни, что ты принял и слышал, и храни и покайся» (Апокалипсис, 3:1-3)
Согласно воспоминаниям близких Введенскому людей, создание поэмы можно отнести к самому началу 30-х годов – 1931 или даже к 1930 г. Этой самой большой по размерам вещью заканчивается ранний период его творчества и она же начинает новый, ознаменованный далее самими лучшими и наиболее зрелыми его произведениями. В ней же находят окончательное оформление эсхатологические воззрения Введенского.
«По-настоящему совершившееся, это смерть. Все остальное не есть совершившееся. Оно не есть даже совершающееся. Оно пупок, оно тень листа, оно скольжение по поверхности», - так определяет предлагаемую в «Кругом возможно Бог» ситуацию один из текстов Серой тетради, начатой Введенским в тюрьме годом раннее. То же – и в «Кругом быть может Бог»: «Какая может быть другая тема, чем смерти вечная система».
По этой причине главный мотив пьесы – эсхатологический: ощущением конца мира и последнего Божьего Суда она проникнута от начала до конца, предвестником становится смерть главного героя с необычным именем Эф, равно как и все, что с ним связано, а именно - неоднократные путешествия его из жизни в смерть и обратно.
В момент, когда его душа отделяется от тела, Эф обретает фамилию Фомин, а все дальнейшие события происходят, очевидно, в бесконечно растянувшийся миг его смерти. Умерев, Фомин проходит через ряд заблуждений, присущих ему при жизни. От некоторых из них он избавляется, другие на протяжении всего пути продолжают оставаться с ним. Он, например, никак не может уйти от мысли, что его тело все еще при нем: «Потрогаю «…»волос, / или глаз я себе почешу, /а то закричу во весь голос / или пойду подышу…» «Но чем дорогой Фомин, - резонно возражают ему, - чем ты будешь кричать, / что ты сможешь чесать, / нету тебя, Фомин, / умер ты, понимаешь?» Но до Фомина это доходит не сразу: «Нет, я не понимаю. Я жив». Затем понимание все же начинает брезжить: «Нет, я кажется мёртв».
По причине неполного понимания Фоминым своего новоприобретенного состояния ему дается возможность под новым углом зрения увидеть события земной жизни, попутно переосмысливая все ее отрезки, в том числе и те, которые он мог бы выбрать в качестве альтернативных, ибо, по большому счету, и те и другие в новом его существовании одинаково реальны, не в последнюю очередь из-за того, что вневременной загробный мир, в лабиринтах которого, то и дело утыкаясь в его различные тупики, блуждает Фомин, на самом деле не такой уж загробный: это, скорее, некая промежуточная между реальностью и ирреальностью территория с несколько преображенными атрибутами того мира, который он не по своей воле покинул, нечто вроде того, который позже представит Клайв Льюис в повести «Расторжение брака».
Большую часть прежней своей жизни Фомин прожил в бессознательном состоянии, с отключённой душой и сознанием, о чём в начале поэмы признавался летающей девушке, и только затем, как бы припоминая некое несущественное или второстепенное обстоятельство, произносит: «да, ещё Бога молю», а ведь это как раз и должно было стать главным. Попутно выясняется, что он не совсем понимает, Кто есть Тот, Кому он молиться, так как воспринимает Высшего Адресата своих молитв скорее во временных категориях, нежели в понятиях, свойственных вечности - и всё ещё руководствуясь критериями предыдущей, теперь уже оставленной жизни. По ходу действия к её искушениям он вернётся ещё не раз: то поддерживая гротескную беседу в неком светском салоне, где проникающей во все поры пошлостью заражены не только люди, но даже некстати залетающие сюда небесные тела, в частности, метеорит и болид; то предается плотским забавам в будуарах смутно знакомых ему женщин, включая в это число и языческую богиню Венеру, которую почему-то застает за стрижкой ногтей; то стреляется на дуэли с какими-то малореальными приятелями философического склада.
Наконец, разочаровавшись в пользе своих блужданий, осознав, что «богиня Венера мычит, /а Бог на небе молчит, /не слышит ее мычанья /и всюду стоит молчанье», что можно трактовать как его разочарованность и во времени, в котором ему выпало жить, и в мире, и в языческом его восприятии, Фомин со словами: «спустите мне, спустите сходни, / пойду искать пути Господни» пускается в путь для поисков настоящего Бога, в которых, как некая замена дантовского Вергилию, его сопровождает уже появлявшаяся в начале сюжета летающая девушка, по всему – его собственная душа. Между ними происходит разговор, во время которого она сообщает общеизвестную, как следует из контекста, для всех действующих лиц истину: «Все знают, что придет конец, / Все знают, что они свинец /Но это пустяки /Ведь мы еще не костяки…» - явный посыл к пророчеству в Книге Иезекииля. Сказанное дополняется пространным монологом с отчетливо эсхатологическим содержанием не участвовавшей доселе в действии женщины, который заканчивается словами: «Весь распался мир». Фомин, по ходу слушанья этого монолога, видит картинки, предшествующие распаду и помогающие осознать его в срезе, если можно так выразиться, исторического регресса. Он беседует с уверенными в своей правоте земными народами, глядящимися в зеркало, которые хором ему сообщают: «В этом зеркале земля / Отразилась как змея./ Ее мы будем изучать…» - сл следующим далее добавлением о судьбе предшественников, мнения которых они наследовали: «при изучении земли иных в больницу увезли, в сумасшедший дом». А на вопрос Фомина: «что же вы изучали, глупцы?» следует ответ: «мы знаем, что человек начальник Бога». В ответ возмущенный Фомин разражается пространной саркастической речью, дающей крайне сниженную картину того мира, к которому все еще причастен он сам:
Господа, господа,
все предметы, всякий камень,
рыбы, птицы, стул и пламень,
горы, яблоки, вода,
брат, жена, отец и лев,
руки, тысячи и лица,
в войну, и хижину, и гнев,
дыхание горизонтальных рек
занёс в свои таблицы
неумный человек.
Если создан стул то зачем?
Затем, что я на нём сижу и мясо ем.
Если сделана мановением руки река,
мы полагаем, что сделана она для наполнения
нашего мочевого пузырька.
Если сделаны небеса,
они должны показывать научные чудеса.
И только после этого предлагается единственная альтернатива:
Царь мира Иисус Христос
не играл ни в очко, ни в штос,
не бил детей, не курил табак,
не ходил в кабак.
Царь мира преобразил мир.
Он был небесный бригадир,
а мы были грешны.
Мы стали скучны и смешны.
И в нашем посмертном вращении
спасенье одно в превращении.
Услышав от народов, что они не могут этого превращения вынести, Фомин оставляет их и в одиночку проделывает единственно возможный путь к Богу. Начинается окончательный этап его земной жизни, совпадающий с концом времени, когда «все останавливается, все пылает, мир накаляется Богом», и Фомин умирает уже только затем, чтобы воскреснуть – это и есть его преображение. Во время этого акта его посещает еще одно, последнее видение, переданное словами заключающей все произведение пространной ремарки от автора:
Лежит в столовой на столе
труп мира в виде крем–брюле.
Кругом воняет разложеньем.
Иные дураки сидят
тут занимаясь умноженьем.
Другие принимают яд.
Сухое солнце, свет, кометы
уселись молча на предметы.
Дубы поникли головой
и воздух был гнилой.
Движенье, теплота и твердость
потеряли гордость.
Крылом озябшим плещет вера,
одна над миром всех людей.
Воробей летит из револьвера
и держит в клюве кончики идей.
Все прямо с ума сошли.
Мир потух. Мир потух.
Мир зарезали. Он петух.
Однако много пользы приобрели.
Миру конечно ещё не наступил конец,
ещё не облетел его венец.
Но он действительно потускнел.
Фомин лежащий посинел
и двухоконною рукой
молиться начал. Быть может только Бог.
Легло пространство вдалеке.
Полёт орла струился над рекой.
Держал орёл икону в кулаке.
На ней был Бог.
Возможно, что земля пуста от сна,
худа, тесна.
Возможно мы виновники, нам страшно.
И ты орёл аэроплан
сверкнёшь стрелою в океан
или коптящей свечкой
рухнешь в речку.
Горит бессмыслицы звезда,
она одна без дна.
Так сбываются предчувствия Фомина, посещавшие его в его бытность Эфом, высказанные в самом начале поэмы: «А я «…»все бьюсь да бьюсь, чтоб не сгореть». Теперь он наблюдает сгорание мира со стороны, так как эпизодом огненной казнью Богом мира в полном согласии с Откровением Иоанна Богослова пьеса и заканчивается.
По поводу её содержания наличествуют несколько интересных мыслей у различных исследователей. Приятель Введенского Яков Друскин, а также его гражданская жена Тамара Липавская сопрягают отдельные места текста с изречениями Книги Исхода (3:14) и 1-го Коринфянам (15:28). Любопытную версию высказывают Л. Кацис и М. Одесский: «В своей апологии абсурда герой Введенского отрицает и любую возможность объяснения смерти в пределах рационального мышления. «…» Введенский, отвергая знание, разум («наступает ночь ума») и обращаясь к Богу («кругом возможно Бог» и «Христос Воскрес — последняя надежда») «…» приобщается к иррационалистической традиции христианской мистики и философии: … Августин, Тертуллиан, Лютер, Кьеркегор, у которых «ощущение смерти и вера в Бога относятся к сфере абсурда и парадокса». В этом нет ничего удивительного: ведь полное понимание того, что принес с Христос в мир, придет лишь после его конца и преображения в вечности умов его временных постояльцев.