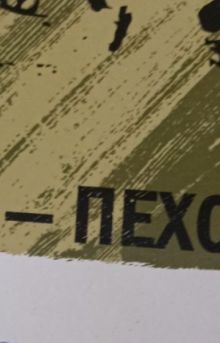В среде отечественной гуманитарной интеллигенции Юрий Михайлович Лотман (28 февраля 1922 г. — 28 октября 1993 г.) с середины 1960-х годов и вплоть до уничтожения СССР был не менее бесспорным авторитетом, чем Дмитрий Сергеевич Лихачёв, а сегодня, возможно, стал даже и большим. Ибо он, в отличие от маститого академика, никаких особых преференций от советской власти не получал, всю жизнь проработал в "провинциальном" Тарту: сначала в местном пединституте, а потом в университете, да ещё и долгое время был "невыездным" — вроде бы по совокупности своего "пятого пункта", а также сочувствия к диссидентскому движению. Но на деле эти и прочие сложности, как представляется, имели своей причиной тот факт, что научные интересы и исследования Лотмана с определённого момента пошли перпендикулярно к "стрежню" (он же — мейнстрим) тогдашней советской лингвистики и литературоведения, вызывая у многих коллег разные степени и формы отторжения: от показного восхищения "свободомыслием" Юрия Михайловича до развёрнутых доносов в компетентные органы. Возможно, его личные качества (все современники отмечали независимость взглядов, чувство собственного достоинства и великолепный юмор) во многом способствовали формированию как пула неприятелей, так и кружка единомышленников и последователей.
При этом сам Лотман прошёл всю Великую Отечественную войну "от звонка до звонка" (призван в 1940-м, демобилизован в 1946-м) и не где-нибудь в тылу, а на передовой, связистом в артиллерийских частях, был контужен, награждён рядом боевых наград, включая медаль "За отвагу"; там же, на фронте, в 1943 году вступил в ВКП(б), а обе свои диссертации, кандидатскую и докторскую, защитил по вполне "правоверным" темам: соответственно, "А.Н. Радищев в борьбе с общественно-политическими воззрениями и дворянской эстетикой Н.М. Карамзина" (1952) и "Пути развития русской литературы преддекабристского периода" (1961), после чего в 1963 году получил учёное звание профессора.
А уже в следующем, 1964-м, на свет появились ставшие впоследствии широко известными и даже знаменитыми "Лекции по структуральной поэтике", в которых автор ступил на новую для себя тогда почву семиотики, пытаясь на этой методологической основе "поверить алгеброй гармонию" — но не музыки, как пушкинский Сальери, а самой поэзии, литературы в целом. "Для изучения художественной литературы будет необходимо построение моделей структур и "физического", и "математического" типа. Они обладают разной степенью всеобщности, и первые удобнее, когда нам придётся моделировать данную структуру, вторые — всякую", — постулировал Лотман, но добавлял: "Если в настоящее время редко уже раздаются голоса, ставящие под сомнение целесообразность подобного подхода к естественным и точным наукам, а в гуманитарных — к явлениям языка, то перспективы структурного изучения литературы всё ещё остаются более чем туманными. Одним из главных препятствий здесь является разделяемое многими исследователями (одними — с опасением, другими — с надеждой) убеждение в том, что структуральное изучение литературы — способ возрождения методологии формализма, средство ухода от идейного анализа литературы". И далее: "Вполне естественно, что представители реакционной буржуазной культуры стремятся поставить себе на службу новые достижения науки и утверждают, что объективный ход человеческого познания подтверждает их догмы. Гораздо более удивительно, когда под флагом защиты чистоты марксистского мировоззрения преподносится требование довольствоваться достигнутым и не двигаться дальше".
Лотман же, исповедуя любовь к истине, принял судьбоносное (для себя и во многом — для науки) внутреннее решение не довольствоваться достигнутым, а двигаться дальше, отталкиваясь от конкретики знаков и знаковых систем, к их значениям, то есть от семиотики — к семантике. Это его движение нашло многих сподвижников, чьи работы (прежде всего — в семи выпусках "Трудов по знаковым системам") получили известность как Тартуская (впоследствии — Тартуско-Московская и даже Московско-Тартуская) семиотическая школа. Её флагом стало следующее утверждение Лотмана: "Речь идёт совсем не о реставрации формализма, а о создании методологии, скорее всего, ему противоположной. Итогом структурального изучения литературы должна явиться выработка точных методов анализа, определение функциональной связи элементов текста в идейно-художественном единстве произведения, научная постановка вопроса о художественном мастерстве и его связи с идейностью. Понятия "идеи" и "поэтического представления о действительности" не заменяются некоей отвлечённой структурой "чего-то". Необходимо изучить структуру идеи, структуру поэтического представления о действительности, то есть структуру словесного искусства. Это будет методология, противостоящая и формальному анализу разрозненных "приёмов", и растворению истории искусства в истории политических учений". Но, тем не менее, именно обвинение в "формализме" и "безыдейности" стали главными претензиями в адрес всей Тартуской школы и персонально в адрес Юрия Михайловича со стороны "официальной" науки, что лишний раз подчёркивает ангажированный и необъективный характер подобных претензий. Тем более, что, по словам известного польского эстетика Стефана Моравского, "Лотману удалось соединить структурализм с марксизмом. И это оказалось оригинально и продуктивно". Так что присуждение главе Тартуской школы многочисленных зарубежных учёных степеней в гораздо большей мере зависело от его научных заслуг, чем от ореола "диссидентства". Хорошо известен его ответ Георгию Гачеву на вопрос о возможной эмиграции: "Я занимаюсь русской культурой, и моё место — здесь. Место санитарного врача в бараке. Там, среди клумб, может оно и приятней, но место — в бараке".
Реальная проблема для Юрия Михайловича и его соратников по Тартуской школе, как представляется, лежала в совершенно иной плоскости: неизбежной недостаточности той научной базы, которая имелась в 1960-х—1980-х годах в их распоряжении. Но они с опорой именно на эту базу совершили бесспорный шаг вперёд в освоении и развитии данной области знаний. Для примера можно привести ещё одну цитату из Лотмана: "Логическую эволюцию можно себе представить приблизительно в таком виде: идеографические знаки сливаются со знаком-словом, превращаясь в идеографическую графику — особую форму, которая уже не препятствует тому, что знак ведёт себя как слово, подчиняясь всем общим для единиц лексического уровня законам. С одной стороны, он теряет безусловную понятность вне структуры данного языка, с другой — приобретает возможность передавать сложную информацию, сочетаясь по законам синтагматики с другими знаками". Здесь стоило бы добавить очень многое: и "системами знаков", и "значащими системами", и многое другое. В данном случае можно сказать, что наши недостатки — продолжение наших достоинств.
На мой взгляд, точнее всего проблемы Тартуской школы были обозначены выдающимся отечественным философом и эстетиком Алексеем Фёдоровичем Лосевым. Он, как известно, в своей статье "Терминологическая многозначность в существующих теориях знака и символа" (1968) высказал претензии к работам Тартуской школы из-за отсутствия в них "строгого логического исследования того, что понимается под моделью и структурой", и в целом из-за "методологической пестроты и терминологического разнобоя", а также из-за отсутствия философского анализа понятия "знак". Как отмечал философ Леонид Столович, который, по его словам, имел уникальную возможность долгое время дружески общаться и с Лосевым, и с Лотманом, выполняя функции приватного канала связи между ними, в частной переписке Алексей Фёдорович был намного более откровенен, указывая на игнорирование представителями Тартуской школы его собственных работ 1920-х—1930-х годов, посвящённых по сути той же проблематике: "Я резко отличаюсь только одним: я считаю совершенно излишним нагромождение разного рода псевдоматематических формул в тех случаях, где они говорят не прямо о математической стороне предмета, а являются только внешней стенографией… Против самого принципа структуры или знака я не только нигде ничего не говорил, но, наоборот, являюсь горячим сторонником структурных методик".
К чести Юрия Михайловича Лотмана, этого Дон Кихота отечественной семиотики, он, как и его классический прототип, к концу жизни признал, что концепция, разработке которой он посвятил почти тридцать лет своей жизни, на тот момент стала "выработанным месторождением". Скорее всего, это не окончательный приговор. Тем более, что сам Лотман вплотную подошёл и даже сформулировал единство понятий "знак" и "значение" в процессе коммуникации. Как писал Михаил Гаспаров, выдвигая в лидеры двух поколений отечественного структурализма Юрия Тынянова и Юрия Лотмана: "Они наметили очертания той теории поэзии, в которую должна вписываться теория стиха… Поэтика структурализма — это поэтика не изолированных элементов художественной системы, а отношений между ними". "Художественная система", то есть система художественных образов, является одной из самых сложных разновидностей коммуникативных систем вербального типа, а исследование структур коммуникативных актов видится сегодня следующим шагом, необходимым для дальнейшего развития теории информации, а также культурологии в целом.
P.S.
В данной публикации неизбежно присутствует определённая авторская пристрастность, поскольку с двумя представителями Тартуской школы, ныне покойными Вадимом Соломоновичем Баевским и Михаилом Леоновичем Гаспаровым, автору в молодости довелось достаточно плодотворно общаться, и Михаил Леонович, при всей своей постоянной занятости, даже нашёл время написать рецензию на дипломную работу автора по типологии русской рифмы.