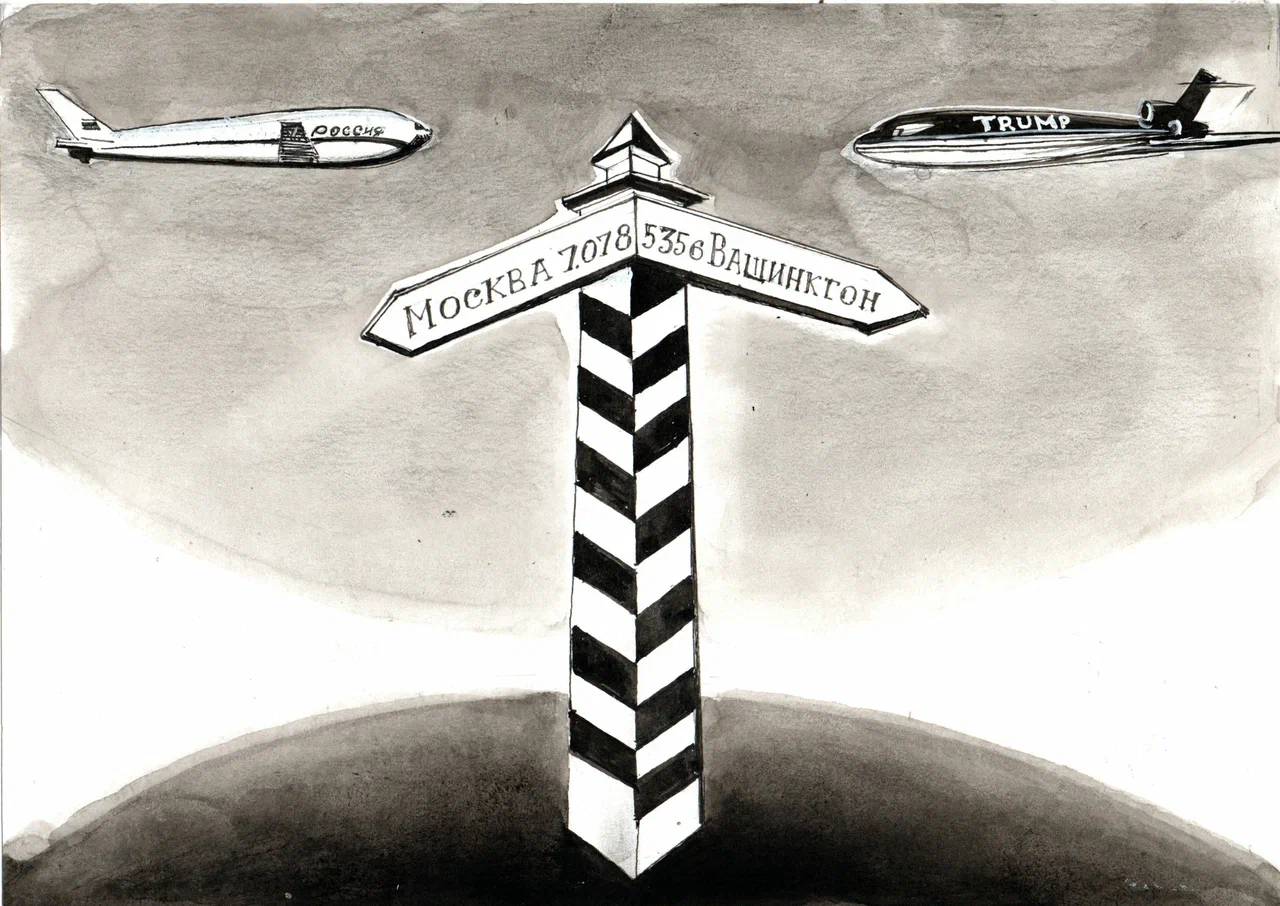17. ТРОИЦК-КРАСНОПАХОРСКИЙ: ВЕЛИКИЕ ДНИ КРАСНОЙ ПАХРЫ. ЗОВ БЫЛОГО.
Беспечный обед в имении Салтыкова
Ревела буря, дождь шумел,
Во мраке молнии блистали,
И беспрерывно гром гремел,
И вихри в дебрях бушевали.
Ко славе страстию дыша,
В стране суровой и угрюмой,
На диком бреге Иртыша
Сидел Ермак, объятый думой.
Товарищи его трудов,
Побед и громкозвучной славы
Среди раскинутых шатров
Беспечно спали средь дубравы…
Кондратий Рылеев
«Ермак» (дума)
В 1801 году Красная Пахра оказалась во владении Николая Ивановича Салтыкова (1736 -1816), личности значительной, заметной.
Сын генерал-аншефа Ивана Алексеевича Салтыкова, имевшего родство с императорской фамилией: сыном внучатого племянника императрицы Анны Иоанновны. В семье Салтыковых особо чтилось Ломоносовское прославление Анны Иоанновны и её эпохи («Царей и царств земных отрада, Возлюбленная тишина, Блаженство сел, градов отрада, Коль ты полезна и красна! Вокруг тебя цветы пестреют И класы на полях желтеют; Сокровищ полны корабли Дерзают в море за тобою; Ты сыплешь щедрою рукою Своё богатство по земли. Когда на трон она вступила, Как высший подал ей венец, Тебя в Россию возвратила, Войне поставила конец»).
Родительница же Александра Первого, царица Прасковья Фёдоровна, происходила из дома Салтыковых. Екатерина 11 благоволила к Салтыковым, ревностным верноподданным своим. Николай Иванович был удостоен ордена Святой Анны, ордена Святого Александра Невского, ордена Святого Иоанна Иерусалимского. Карьерная лестница успешно преодолевалась им: генерал-поручик, генерал-аншеф, Генерал-фельдмаршал, вице-президент Военной коллеги, председатель Государственного Совета, председатель кабинета министров.
В эпоху Екатерины 11 и Александра Первого он проявил себя как верноподданный государственник, ярый державник. В 1770-ые он – воспитатель наследника Павла Петровича, а потом становится воспитателем великих князей Александра ( будущий Александр 1) и Константина. Особенно умиляло Николая Ивановича чтение великокняжескими отроками и отроковицами Ломоносовских торжественных строф о восшествии на престол Анны Иоанновны («Тогда божественны науки Чрез горы, реки и моря В России простирали руки»).
Николай Салтыков обладал недюжинным талантом царедворца. Его «подвиги добродетели» реализовывались в блестящей карьере. С 1790-го Салтыков – президент военной коллегии. В начале века девятнадцатого из-за недомогания ушёл в отставку. В Красной Пахре знатный вельможа посвятил себя землеустроению, садоводству, сельскому хозяйству. Был основательно обновлен дом. Озаботился он и парковыми ландшафтами.
Николай Иванович Салтыков активно взаимодействовал с Михаилом Илларионовичем Кутузовым; знавшие друг друга на протяжении десятилетий, военные деятели в личных контактах и конфиденциальной переписке они решали серьёзные стратегические и тактические вопросы. «Главная квартира при селении Красная Пахра» - одно из их решений.
… Обед у Салтыкова Милорадовича и принимавших участие в одном из совещаний командиров подразделений омрачился чрезвычайным происшествием. «Господа, французы в Красном!» - прокричал молодой офицер, вбежавший к расположившимся у «стола яств». Возникло некоторое замешательство. Хозяин дома успокоил гостюющих, что есть возможность выйти к берегу Пахры через подземный ход, что и было сделано. Оказалось потом, что «слух» о французах в Красном весьма преувеличен. Неприятельские солдаты, заплутавши в окрестных болотистых дебрях, очутились в непосредственной близости к саду у имения Салтыкова…
озвать меня: «Ну что, - сказал он, взяв меня за руку, как я только вошла, - покойнее ли у меня, нежели в полку? Отдохнул ли ты? Что твоя нога?». Я принуждена была сказать правду, что нога моя болит до нестерпимости, что от этого у меня всякий день лихорадка и что я машинально только держусь на лошади по привычке, но что силы у меня нет и за пятилетнего ребенка. «Поезжай домой, - сказал главнокомандующий, смотря на меня с отеческим состр
Кавалерист-девица Надежда Дурова
в лагере при Красной Пахре
Хребту коня свой стан вверяя,
Свой пол меж ратников скрывая,
Ты держишь с ними трудный путь,
Кипит отвагой девы грудь…
И на коне наездник новый,
В руках сжав сабли рукоять,
Беллоны вид приняв суровый,
Летит на вражескую рать…
А. Глебов
«Какие причины заставили молодую девушку хорошей дворянской фамилии оставить отеческий дом, отречься от своего пола, принять на себя труды и обязанности, которые пугают и мужчину, и явиться на поле сражений – и каких ещё? Наполеоновских! Что побудило её? Тайные семейные огорчения? Воспаленное воображение? Врожденная, неукротимая склонность? Любовь?..»
А. С. Пушкин
«Судьба автора так любопытна, так известна и так таинственна, что разрешение загадки должно произвести сильное общее впечатление…», - писал Александр Сергеевич о создательнице «Записок кавалерист-девицы». «Ныне Н.А. Дурова сама разрешает свою тайну, - проясняет свою позицию Пушкин. - Удостоенные ее доверенности, мы будем издавать ее любопытные записки. С неизъяснимым участием прочитали мы признания жизни столь необыкновенной, с изумлением увидели, что нежные пальчики, некогда сжимавшие окровавленную рукоять уланской сабли, владеют и пером быстрым, живописным и пламенным».
…Москвоведение, Большая Москва и Пушкиниана. Этой тематике посвящен специальный альманах, вошедший в данный просветительско-культурологический проект. В публикуемом ниже эссе уточняются и дополняются некоторые страницы российской истории эпохи 1812 года.
Пушкин-лирик, Пушкин-прозаик, Пушкин-публицист, Пушкин-историк, Пушкин-журналист и издатель – об Отечественной войне, ратно-боевом и нравственно-духовном столкновении и противоборстве войны и мира, добра и зла, гражданственно-державного и индивидуалистического, великого и подлого, бессмертного и сиюминутного. «Гроза двенадцатого года Настала – кто тут нам помог? Остервенение народа, Барклай, зима иль русский Бог?» - пушкинский автобиографический повествователь ставит самые жгучие, самые «ревущие» вопросы. В этом контексте весьма поучительна позиция Пушкина в оценке и раскрытии патриотического потенциала личности и сочинений «кавалерист-девицы», кавалера Георгиевского креста Надежды Андреевны Дуровой.
Отдельное издание своего труда Надежда Андреевна предполагала назвать «Русская амазонка, известная под фамилией Александров». Метафора «нацеленного» заглавия свидетельствует о приключенческо-мифологической ориентированности жанра повествования. Вместе с тем, перед нами – художественно-документальная, мемуарно- «репортажная» фиксация поэтически воспринятых событий, имевших место в реальности. – «Минувшее счастье! Слава! Опасности! Жизнь, кипящая деятельностью!..» - таково романтически-пафосное восприятие автобиографическим героем событий, коллизий, превратностей судьбы. Корнет Александров – в боях под Маром, Романовом, Дашковкой, в конной атаке под Смоленском, в Бородинском сражении.- «Священный долг к отечеству заставляет простого солдата бесстрашно встречать смерть, мужественно переносить страдания и спокойно расставаться с жизнью», - не коньюнктурно-декларативное, а выстраданное и подтвержденное в ратном подвижничестве убеждение главного героя.
Отечественная война 1812 года вызвала к жизни самые разнообразные жанры; назовём некоторые произведения: Ф.Н. Глинка. «Письма русского офицера», М., 1815; Д.В. Давыдов. «Опыт теории партизанских действий»; И.М. Муравьев-Апостол. «Письма из Москвы в Нижний Новгород» - («Сын Отечества», 1813-1814), М.,1821; С.Н. Глинка. «Записки о 1812 годе», СПб., 1836; И. Лажечников. «Походные записки русского офицера», М., 1836; И. Радожицкий. «Походные записки артиллериста с 1812 по 1816 год»; В.И. Штейнгель. «Записки о походе 1812 – 1813 годов» (1836); В.С. Норов. «Записки о походе 1812 и 1813 года от Тарутина до Кульманского боя» (1834). «Записки кавалерист-девицы» занимают среди них особое место.
«Я опять слышу грозный, величественный гул пушек! Опять вижу блеск штыков!.. Первый год моей воинственной жизни воскресает в памяти моей…». – автобиографический повествователь зримо, предметно, пластически внятно воссоздаёт былое, далёкое-близкое.
Взыскательный историк культуры и требовательный критик Виссарион Белинский признал дарование нового автора: «И что за язык, что за слог у Девицы-кавалериста! Кажется, сам Пушкин отдал ей свое прозаическое перо, и ему-то обязана она этою мужественною твердостью и силою, этою яркою выразительностью своего слога».
«Московский период» повествования связан с назначением Кутузова. «У нас новый главнокомандующий Кутузов! – восторгается корнет Александров.- Это услышал я, стоя в кругу ординарцев, адъютантов и многих других офицеров, толпящихся около разведенного огня. Гусарский генерал Дорохов говорил, поглаживая усы свои: «Дай Бог, чтоб Михайло Ларионович поскорее приехал и остановил нас, мы разбежались как под гору». Всеобщее одобрение происходящего: «Кутузов приехал! Солдаты, офицеры, генералы – все в восхищении…».
Аудиенция у Главнокомандующего
…Пуля оцарапала бок. Осколок пушечного ядра задел ногу. Страдая от боли, молодой всадник оставался на поле боя до конца битвы. Москва, покидаемая русскими войсками и населением. Москва, охваченная пожаром – от горизонта до горизонта…
Имевшие место в реальности события – как напряженная сюжетно-фабульная, остро-приключенческая версия. Стечение обстоятельств приводит молодого воина к угрозе расстрела… Автор «Записок кавалерист-девицы» повествует о своих приключениях, злоключениях, роковых превратностях военного бытия…
Нарисованные картины выразительно-зримы, художественно-пластически наглядны:
«… Приехав в главную квартиру, увидела я на одних воротах написанное мелом слово: « Главнокомандующему»; я встала с лошади и вошедши в сени, встретила какого-то адъютанта. «Главнокомандующий здесь?» - спросила я. «Здесь», - ответил он вежливым и ласковым тоном; но в ту же минуту лицо, вид и голос адъютанта изменились, когда я сказала, что ищу квартиру Кутузова: «Не знаю; здесь нет, спросите там», - сказал он отрывисто, не глядя на меня, и тотчас ушел. Я пошла далее и опять увидела на воротах: «Главнокомандующему». На этот раз я была уже там, где хотела быть: в передней горнице находилось несколько адъютантов; я подошла к тому, чье лицо показалось мне лучше других; это был Дишканец. «Доложите обо мне главнокомандующему, я имею надобность до него»». – «Какую? Вы можете объявить её через меня». – «Не могу, мне надобно, чтобы я говорил с ним сам и без свидетелей; не откажите мне в этом снисхождении»,- прибавила я, вежливо кланяясь Дишканцу. Он тотчас пошел в комнату Кутузова и через минуту, отворяя дверь, сказал мне; «Пожалуйте»» - и с этим вместе сам вышел опять в переднюю; я вошла и не только должным уважением, но даже с чувством благоговения поклонилась седому герою, маститому старцу, великому полководцу…»
Перед нами - мемуарно-биографическое свидетельство высочайшей духовно-нравственной и гуманитарно-культурологической ценности. Исповедальность, искренность, особая сентиментально-романтическая пафосность – в описании знаменательной встречи величайшего полководца и юного корнета Александрова. Читатель обнаруживает в «Записках» подкупающую правдивость, незамутненность восприятия, стремление «остановить мгновения», воистину принадлежащие бессмертию и вечности: «Что тебе надобно, друг мой?» - спросил Кутузов, смотря на меня пристально. «Я желал бы иметь счастие быть вашим ординарцем во все продолжение кампании и приехал просить вас об этой милости». – «Какая же причина такой необыкновенной просьбы, а еще более способа, каким предлагаете её?».
Диалог Главнокомандующего и юного корнета выполнен в «драматургическом» ключе. Запальчиво-сбивчивая речь посетителя. Мудро-взвешенное, неизменно весомое слово легендарного полководца. - «Я рассказала, что заставило меня принять эту решимость, и, увлекаясь воспоминанием незаслуженного оскорбления, говорила с чувством, жаром и в смелых выражениях; между прочим, я сказала, что, родясь и выросши в лагере, люблю военную службу со дня моего рождения, что посвятила ей жизнь мою навсегда, что готова пролить всю кровь свою, защищая пользы государя, которого чту как бога, и что, имея такой образ мыслей и репутацию храброго офицера, я не заслужил быть угрожаем смертью…».
Психологическая кульминация визита необычного просителя: «Я остановилась, как от полноты чувств, так и от некоторого замешательства: я заметила, что при слове «храброго офицера» на лице главнокомандующего показалась легкая усмешка. Это заставило меня покраснеть; я угадала мысль его и, чтобы оправдаться, решилась сказать все. «В Прусскую кампанию, ваше превосходительство, все мои начальники так много и так единодушно хвалили смелость мою, и даже сам Буксвегден назвал её беспримерною, что после всего этого я считаю вправе называться храбрым, не опасаясь быть сочтен за самохвала» - «В Прусскую кампанию! Разве вы служили тогда? Который вам год? Я полагал, что вы не старее шестнадцати лет». Я сказала, что мне двадцать третий год и что в Прусскую кампанию я служила в Коннопольском полку. «Как ваша фамилия?» - спросил поспешно главнокомандующий. «Александров!» Кутузов встал и обнял меня, говоря: «Как я рад, что имею наконец удовольствие узнать вас лично! Я давно уже слышал об вас. Останьтесь у меня, если вам угодно; мне очень приятно будет доставить вам некоторое отдохновение от тягости трудов военных; что же касается до угрозы расстрелять вас, - прибавил Кутузов, усмехаясь, - то вы напрасно приняли ее так близко к сердцу; это были пустые слова, сказанные в досаде. Теперь идите к дежурному генералу Коновницыну и скажите ему, что вы у меня бессменным ординарцем». Я пошла было, но он опять позвал меня: «Вы хромаете? Отчего это?» Я сказала, что в сражении под Бородином получила контузию от ядра. «Контузия от ядра! И вы не лечитесь! Сейчас скажите доктору, чтобы осмотрел вашу ногу». Я ответила, что контузия была очень легкая и что нога моя почти не болит. Говоря это, я лгала: нога моя болела жестоко и была вся багровая».
«Теперь мы живем в Красной Пахре, в доме Салтыкова»
«…Нам дали какой-то дощатый шалаш, в котором все мы (то есть ординарцы) жмемся и дрожим от холода. Здесь я нашла Шлеина, бывшего вместе со мною в Киеве на ординарцах при Милорадовиче.
Лихорадка изнуряла меня. Я дрожала, как осиновый лист! Меня посылают по двадцать раз на день в разные места; на беду мою, Коновницын вспомнил, что я, будучи у него на ординарцах, оказался отличнейшим из всех, тогда бывших при нем. «А, здравствуй, старый знакомый», - сказал он, увидя меня на крыльце дома, занимаемого главнокомандующим; и с того дня не было уж мне покоя. Куда только нужно было послать скорее, Коновницын кричал: «Уланского ординарца ко мне!» - и бедный уланский ординарец носился, как бледный вампир, от одного полка к другому, а иногда и от одного крыла армии к другому».
Наконец Кутузов велел п аданием, - ты в самом деле похудел и ужасно бледен; поезжай, отдохни, вылечись и приезжай обратно». При этом предложении сердце море стеснилось. «Как мне ехать домой, когда ни один человек теперь не оставляет армию» - сказала я печально. «Что ж делать! Ты болен. Разве лучше будет, когда останешься где-нибудь по пути в лазарете? Поезжай! Теперь мы стоим без дела, может быть, и долго еще будем стоять здесь; в таком случае успеешь застать нас на месте». Я видела необходимость последовать совету Кутузова: ни одной недели не могла бы я доле выдержать трудов военной жизни. «Позволит ли, ваше превосходительство, привезти с собой брата? Ему уже четырнадцать лет. Пусть он начнет свой путь под началом вашим». – «Хорошо, привези, - сказал он, - я возьму его к себе и буду ему вместо отца»…
От Красной Пахры – к Тарутино
«Северный Лис» (так уважительно-метафорически именовали Михаила Илларионовича) под завесой «беспечности» ни на минуту не прерывал деятельность «главной квартиры», ставки. Рассылались чётко выверенные распоряжения, приказы, информационно-тактические записки частям, лицам, ответственным за снабжение армии оружием, лошадьми, продовольствием, медикаментами.
Полевой почтамт. Почтовые линии. Императору, губернаторам соседних губерний было направлено письмо о возвращении церковных ценностей, разграбленных французами. Письма жене, дочерям писал под диктовку находившийся при штабе его зять полковник князь Н.Д. Кудашев.
В Красной Пахре проведен военный совет по случаю получения рескрипта от императора с изложением общего плана действий против оккупантов на западных рубежах России. Совет держали Барклай де Толь, Коновницын, Толь. Беннигсен, Чернышев, привезший план из Петербурга.
Здесь же объявлено о получении Кутузовым от императора Александра за Бородинское сражение чина генерала-фельдмаршала русской армии. Было предписано составлять списки нижних чинов, принимавших участие в битве. Предполагалось пожаловать им от императора по 5 рублей на человека. Отличившихся офицеров представляли к следующим чинам. Юнкеры и унтер-офицеры производились в офицеры.
В научной и популярной литературе, как и в документах самой ставки, место, где располагался лагерь и сама Главная квартира, называется деревней или селением Красная Пахра. Однако краеведы, досконально знающие и Красную Пахру, и соседние села и деревни, полагают: ответ на вопрос, где же находилась эта ставка, не прост. Красно-пахорский и тарутинский обходной маневр Кутузова…Поскольку село Александрово постоянно упоминается в сообщениях об этом маневре краеведы (в частности, Щапов) пришли к выводу, что сама ставка располагалась не в деревне на Калужской дороге, а в усадьбе, на р. Страданке, Красное, которая тогда была составной частью села Красная Пахра.
Краеведы также обратили внимание на следующие обстоятельства и детали. В фонде военно-ученого архива (ВУА) Российского военно-исторического архива в Москве сохранился план «лагеря при деревне Красная Пахра 13 сентября 1812 г.». Название «Красная Пахра» обозначено и при деревне, расположенной по Калужской дороге, по обеим сторонам реки Нары, и при усадьбе с церковью и парком, расположенной при высоком берегу над речкой Страданью. Название «Красное» усадьба не имеет. Усадьба как бы объединяется под единым названием «красная Пахра». Сам лагерь зафиксирован с указанием номеров корпусов (со 2-го по 6-ой) вокруг: между Варвариным, Колотиловым и Кузеневым. Южнее Колотилова обозначены Первая и Вторая кирасирские дивизии.
Следует заметить, что на карте-двухверстке Московской губернии, изданной Военно-топографическим бюро в 1860-ом (по съёмкам 1852-1853 годов) усадьба также не имеет отдельного названия. И парк, и церковь, и усадебные здания и постройки задокументированы рядом с деревней Страдань. Не имеет названия усадьба (ныне называемая Красным) на карте (масштаб 500 м в 1 см) Подмосковья 1828-1832 годов.
Конечно же, имеет право на существование гипотеза о том, что квартира Кутузова в Красной Пахре могла располагаться скорее в усадьбе, которая также носила название Красная Пахра, а не в деревне по Калужской дороге.
«…память в назидание потомству…»
Художественно-мемуарный опыт Н.А. Дуровой учитывался последующими авторами, обратившимися к тематике, фактологии и проблематике эпохи 1812-1814 годов (роман «Двенадцатый год» Д.Л. Мордовцева (1885); повесть «Надежда Дурова» Я.С. Рыкачева (1942); пьеса «Давным-давно» А.К. Гладкова (1940-1942); фильм по мотивам этой пьесы «Гусарская баллада» (1962); опера «Надежда Дурова» А. Богатырева (1957).
Скромное, но нравственно-весомое наследие её – один из феноменов эпохи, одухотворенной идеями и «завязями» сложного и противоречивого времени.
Н.А. Дурова – автор нескольких произведений. В повесть «Северный ключ» мастерски, психологически мотивированно «вплетено» стилизованно-фольклорное стихотворение. Устно-поэтическая, песенная сага чарует читателя вдохновенной «диалектикой» волшебно-философского лироэпоса («Бежит, гремит, кипит, клокочет Волшебный ключ моей страны! Злой Керемит в лесу хохочет В часы полночной тишины! Бежит, гремит: по камням скачет Волшебный ключ моей страны! На берегу девица плачет В часы полночной тишины! Бежит, гудит, волной сверкает, Волшебный ключ моей страны! С кудрей девица кровь смывает В часы полночной тишины!»).
Но, конечно же, самые читаемые и ценимые – «Записки кавалерист-девицы»., которые приветствовал «сам» Виссарион Белинский: «Боже мой, что за чудный, что за дивный феномен нравственного мира – героиня этих записок, с её юношеской проказливостью, рыцарским духом, отвращением к женскому платью и женским занятиям, с ее глубоким поэтическим чувством, с ее грустными, тоскливыми порывами на раздолье военной жизни из-под тяжкой опеки…».
Нравственно-духовный идеал Н.А. Дуровой способствовал формированию активной жизненной позиции россиянина, гражданина и патриота («…Я люблю воинское ремесло со дня моего рождения, и считаю звание воина благороднейшим из всех и единственным, в котором нельзя предполагать никаких пороков, потому что неустрашимость есть первое и необходимое качество воина, с неустрашимостью неразлучно величие души, и при соединении этих двух великих достоинств нет места порокам или низким страстям»).
Вот уже два века читатель ведёт диалог с человеком судьбы удивительной, легендарно-загадочной. Приключенчески-невероятные, неожиданные, впечатляющие, захватывающие страницы воистину замечательной жизни («Все говорят об этом, но никто ничего не знает, все считают возможным, но никто не верит, мне не один раз уже рассказывали собственную мою историю со всеми возможными искажениями: одна описывает меня красавицею, другая уродом, третья старухою, четвертый давал мне гигантский рост и звериную наружность. Судя по этим описаниям, я могла быть уверенной, что никогда ничьи подозрения не остановятся на мне, если б не одно обстоятельство: мне полагалось носить усы, а их нет и, разумеется, не будет… Часто уже смеются мне, говоря: «А что, брат, когда мы дождемся твоих усов? Уж не лапландец ли ты?»)…
* * *
«Мир её праху! Вечная память в назидание потомству
её доблестной душе»
(надпись на памятном граните)