ЦЕЛЬНОСТЬ
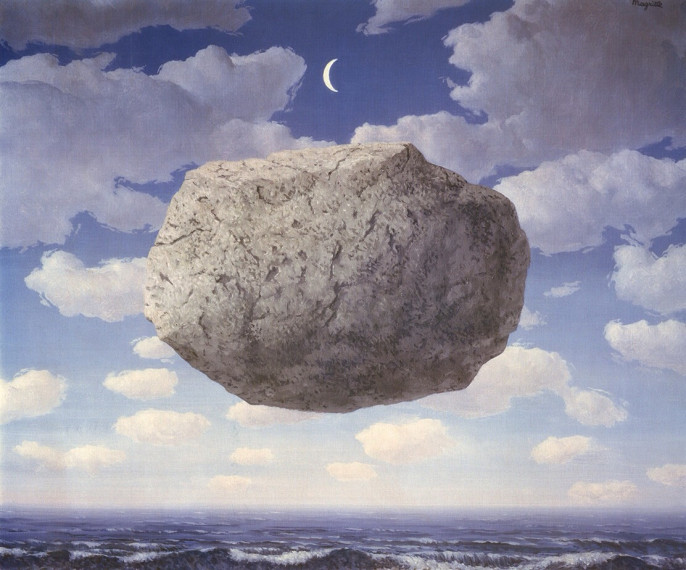
3-4 марта в Российской академии наук прошёл VI Московский экономический форум. В его работе приняли участие А. Сергеев, С. Глазьев, О. Дмитриева, К. Бабкин, Ю. Болдырев, П. Грудинин, Б. Титов, Л. Ивашов, А. Вассерман и многие другие экономисты, политики, учёные, производственники.
«Мне кажется, идеология в России есть. Это либерализм, правительство живет в идеологии либерализма, хотя это учение притворяется не идеологией. Но так или иначе наше правительство ставит во главу угла интересы личности, интересы корпораций. При этом интересы государства отодвигаются на второй и на третий план», — сказал президент союза «Новое содружество» и председатель совета директоров «Ростсельмаша» Константин Бабкин.
«Главное — не дать заболтать те цели опережающего развития, о которых в послании Федеральному собранию говорил президент Владимир Путин», — заявил Сергей Глазьев. — «Промышленные мощности недозагружены со стороны технического потенциала, а также сырьевого ограничений нет — производство можно наращивать. Нет ограничений и в трудовых ресурсах (однако ранее Центробанк и Минэкономразвития неоднократно обращали внимание на дефицит кадров). Российская экономика остатся донором мировой финансовой системы», она находится в спекулятивной ловушке из-за carry trade. Негосударственный сектор почти полностью офшоризован, и это результат архаичной денежно-кредитной политики. В такой ситуации расчет на то, что Запад нам поможет или Восток нас вытащит, абсолютно необоснован, поскольку мы [во взаимоотношениях] с внешней финансовой средой теряем больше, чем получаем».
«К сожалению, сегодня опять стоит вопрос об указах, о национальных приоритетах, проектах. Но вопрос по стратегии по-прежнему не ставится», — заявил на МЭФ Борис Титов, участвовавший в выборах президента и набравший на них менее 1% голосов. Нужен штаб реформ, а также переход к проектному финансированию, заявил Титов, который параллельно с Кудриным подготовил свою «Стратегию роста». «Совершенно очевидно», что в России нет никакой опасности банковского кризиса нет, поэтому его решили «создать», говорила член бюджетно-финансового комитета заксобрания Санкт-Петербурга Оксана Дмитриева: «Это, на мой взгляд, искусственно создаваемая нестабильность в банковской системе и возможность потратить огромный объем средств».
Люди хотят «справедливого перераспределения доходов от полезных ископаемых», прогрессивной шкалы НДФЛ, бесплатного образования и медицины, перечислял председатель Совхоза имени Ленина Павел Грудинин. «Точно так же на нас висят правоохранительные органы, и любому возбудят уголовное дело, если он высунулся. Точно так же засилье административных процедур невозможно уже понять: они все пишут какие-то нормативы, а потом их применить невозможно. Один говорит закрыть все двери, а второй открыть все двери — и оба наказывают», — заявил Грудинин. «Россия проиграла экономическую борьбу даже Белоруссии и Казахстану, а новый экономический курс после инаугурации Путина не должен вновь быть либеральным», заключил он.


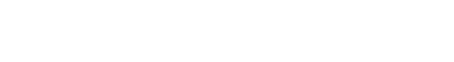

Завершился VI Московский экономический форум. Я выступал там 3 апреля 2018 года, о чём расскажу ниже. Но вначале нужно сказать, что вызывает недоумение отсутствие освещения этого события в большой государственной прессе. Ведь проходил этот форум в Российской академии наук, которая пока ещё остаётся важным и влиятельным институтом нашего общества. Темы дискуссий — самые важные, назову только некоторые: «Будущее России: вызовы, стратегии, механизмы достижения успеха», «Будущее сельских территорий России в контексте развития аграрного мира», «Глобальные технологические вызовы и новые требования к национальной экономике», «Культурная политика: между свободой личности и интересами общества?», «Политика Банка России — как восстановить доверие к коммерческим банкам и запустить инвестирование реального сектора», «Выборы прошли: что делать с экономикой?» И говорили на эти темы люди, среди которых не было малозначимых. Но, тем не менее, мы не видим не только прессы, но не видим и никаких министров. Почему же налицо такое очевидное пренебрежение с официальной стороны к очень важному и значимому форуму?
Непосредственно в самом Московском экономическом форуме я участвую впервые, так уж сложились обстоятельства. Но в подготовительных заседаниях к нему я участвую весьма регулярно и знаю, что на каждый форум приглашают членов правительства и сотрудников аппарата правительства. И ещё не было ни единого случая, чтобы кто-то из них явился на заседание. По очень простой причине: все эти заседания проходят с разъяснением прописных истин экономической теории и практики, прямо противоречащих так называемому Вашингтонскому консенсусу, то есть десяти заповедям либеральной экономики. Тогда как именно экономический блок правительства Российской Федерации отформатирован под строжайшее соблюдение этих заповедей.
Вашингтонский консенсус — это свод требований, предъявляемых Международным валютным фондом и Всемирным банком к странам, получающим кредиты от этих организаций. Замечу, речь идёт именно о кредитах, то есть это деньги, которые надо возвращать, причём возвращать с процентами. Другое дело, что проценты, которые требуют эти организации, сравнительно малы и этим, собственно, привлекательны. Но в любом случае за то, что эти организации соглашаются дать кредиты, они требуют исполнения правил, приводящих в конечном счёте к тому, что страна, исполняющая эти правила, лишается возможности действовать самостоятельно, лишается возможности развивать самостоятельно своё хозяйство, и превращаются, по сути, в придаток тех стран, чьими деньгами распоряжаются Международный Валютный Фонд и Всемирный Банк. Но, поскольку в 90-е годы усилиями реформаторов сперва горбачёвской, а потом ельцинской команды страна была разорена, не сводила концы с концами и бюджет держался только на кредитах от Международного валютного фонда и Всемирного Банка, из аппарата правительства были вытеснены все, кто осознавал или хотя бы подозревал пагубность Вашингтонского консенсуса. Просто потому, что они не могли исполнять эти требования, а от их исполнения в тот момент зависело сиюминутное благополучие всей страны и, в первую очередь, правительственных структур. Сейчас человек, осознающий пагубность Вашингтонского консенсуса, даже если каким-то образом попадёт в правительство, заведомо не будет иметь возможности там работать, потому что коллеги его просто не поймут. И именно в силу своей догматизации правительство и на уровне министров, и на уровне аппарата отказывается сотрудничать с Московским экономическим форумом, где пагубность Вашингтонского консенсуса доказывается и теоретически, и примерами из практики. И поэтому же деятельность МЭФ не освещается в СМИ, поскольку большая их часть так или иначе подконтрольна людям и организациям, также пребывающим в догматике Вашингтонского консенсуса. Любое освещение мероприятий, где консенсус опровергается, выходит за пределы допустимого для руководителей и владельцев большинства СМИ. А также выходит за пределы допустимого для самих журналистов, ибо большая их часть выросла и воспитана в эпоху, когда Вашингтонский консенсус велено было считать безоговорочно верным и почитать более, чем десять заповедей. Так что меня совершенно не удивляет заговор молчания вокруг Московского экономического форума, ибо это заговор обусловлен всё тем же Вашингтонским консенсусом.
Кстати говоря, в той дискуссии, где я сам участвовал, позицию Вашингтонского консенсуса попытался представить один из профессоров Высшей школы экономики, где этот самый консенсус считается абсолютно безоговорочно достоверным и где всё преподавание экономики построено так или иначе на его основе. В связи с чем я несколько лет назад беседовал со студентами этой организации и начал выступление с того, что, как известно, в Высшей школе экономики всему учат хорошо — ну, конечно, кроме экономики. Так вот, реакция на слова этого профессора была столь мощной, что он и второй участвовавший в дискуссии преподаватель той же организации попытались просто уйти. Зал отреагировал на это выкриками — «вы уходите, потому что вам возразить нечем!» Поскольку часть слов, сказанных в адрес этого товарища, носила личный характер, я за него вступился, сказал. «Глубоко уважаемый профессором Урновым профессор Урнов сотрудничает в Высшей школе экономике, поэтому всё, что он здесь говорит, это не его личные взгляды, а общая позиция Высшей школы ликвидации экономики и не надо примешивать к делу личные мотивы». Тогда он успокоился, сказал: «Ну, хоть так». И вернулся на место. Так вот, позиция этого самого профессора и его поведение в ходе дискуссии, по-моему, вполне отчётливо показывает, почему вокруг Московского экономического форума сложился столько жёсткий заговор молчания.
Но мы живём в век интернета. Интернет, при всех своих минусах, всё-таки выполняет важнейшую функцию пока ещё неподконтрольной или почти неподконтрольной информации. Таким образом, люди могут послушать то, что говорилось на МЭФ. Ещё несколько слов об интернете. Я там присутствовал на дискуссии о том, нужно ли вводить в интернете цензуру. Ну и, как водится, интернетом дело не ограничилось, спор пошёл о свободе в целом. И один из тоже весьма известных либеральных деятелей Борис Борисович Надеждин по ходу дела завил: «Я прошу тех, кто считает нужными ограничения свободы, ограничивать её для себя и не затрагивать мою свободу». Заявление, мягко говоря, доказывающее непонимание им самого понятия ограничение свободы, ибо вполне очевидно, что свободу ограничивают, когда это необходимо для всего общества, а не только для тех, кто и без ограничений ведёт себя разумно. Но я это высказывание с места прокомментировал цитатой из Достоевского: «Свету ли провалиться, или вот мне чаю не пить? Я скажу, что свету провалиться, а чтоб мне чай всегда пить».
А что касается той дискуссии, где я участвовал уже не в качестве слушателя, то она была посвящена вопросу «Глобализация или протекционизм». Моё выступление выражало следующие мысли.
Нынче велено считать единственно правильным комплекс теорий, так или иначе опирающихся на веру в благотворность неограниченной свободы личности, безо всякой оглядки на общество. Между тем, в теории систем давно доказано, что каждый новый уровень сложности структуры порождает принципиально новые закономерности, не сводимые напрямую к закономерностям нижележащих уровней. Поэтому теории, опирающиеся на это представление, тем самым лишают себя возможности понять закономерности, формирующиеся именно на уровне общества как целого. В частности, эти теории считают известный уже, по крайней мере, три тысячелетия факт повышения производительности труда при его разделение некой аксиомой, не понимают причин этого явления и, соответственно, не понимают его пределов и ограничений. И вследствие этого они рекомендуют его даже в условиях, когда разделение труда не работает. В частности, нынешняя система глобального разделения труда требует от каждой страны, чтобы она сосредоточилась на нескольких видах деятельности, получающихся у неё лучше всех прочих, и всё остальное приобретала за рубежом. Но страна слишком сложная структура, чтобы ограничиться несколькими видами деятельности. И некритическое следование этой теории привело к тому, что сложился экономический парадокс — производительность в расчёте на одного работающего растёт, а в расчёте на одного живущего падает, потому что всё большая часть живущих выводится из числа работающих. И именно поэтому необходимо отказаться от такой системы разделения труда, а перейти к системе, где каждая страна производит сама всё, что может произвести, а к другим обращается только за тем, что у неё вообще не получается.
Но развитие такой системы упирается в явление коммерческого бессмертия, когда нечто, возможно, даже не лучшее, выйдя на рынок первым, очень быстро обрастает всякими поддерживающими структурами. И главное, даже когда оно устарело, вложено столько средств, что никто не может от него отказаться. И для того, чтобы в таких условиях создавать нечто принципиально новое, необходима защита внутреннего рынка. Кроме того, история показывает: все страны, сейчас призывающие к свободной торговле, начинали с того, что развивали собственное производство жёстким протекционизмом. И только после развития переходили к другому формату защиты своего производства, а именно защищали его путём требования к другим странам максимально открывать свои рынки для чужой продукции. Так что нынешняя глобализация — это диалектическое развитие протекционизма другими средствами.
Это то, что я сказал в ходе дискуссии на МЭФ.
Очень дельными показались высказывания всех, кого я смог услышать. Например, президент РАН Сергеев очень чётко и максимально резко, насколько это возможно для человека его положения, обозначил проблемы современной науки и пагубность ЕГЭ. Как оценить это выступление Сергеева? Как некий демарш от отчаяния или, наоборот, как сильную акцию уверенного в себе человека с надеждой на то, что его услышат?
Боюсь, что это всё-таки, скорее, жест отчаяния. Потому что как мы в самом начале отметили, на этот форум не ходят те, от кого сейчас зависит принятие подобных решений. И вся надежда в данном случае исключительно на то, что состав лиц, принимающих решения, рано или поздно поменяется.
Можно ли говорить, что Московский экономический форум всё-таки за шесть лет стал такой площадкой, где реально структурируется некая настоящая, а не фейковая, оппозиционная экономическая сила? Стал настоящей, а не подставной, альтернативой действующей экономической власти, и люди, общаясь там, сводя личные знакомства, формируют, вполне возможно, команду тех, кому придётся вытаскивать Отечество из экономической трясины?
Да, это так. Форум действительно за много лет выработал цельную экономическую концепцию. И эта концепция, насколько я могу судить, вполне работоспособна и может быть запущена в дело практически мгновенно, как только появится соответствующая политическая воля.