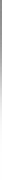Введение
«Подпольный человек есть главный человек в русском мире. Всех более писателей говорил о нем я…» — именно так отзывался великий русский писатель Ф. М. Достоевский о «главнейшем» в своем творчестве. Как справедливо замечают многие исследователи и мыслители, например, В. В. Розанов, именно «подпольный человек» Ф. М. Достоевского не получил должного внимания и не был отрефлексирован настолько, насколько он того заслуживает. При этом оценки этого типа предельно разнятся: от восхищения (В. В. Розанов, К. В. Мочульский, Ф. И. Гиренок) до сдержанного непринятия и даже отторжения (С. А. Никольский). Кроме того, нам кажется важным, что «подпольный человек» крайне редко подвергался рефлексии именно как антропологический тип, созданный в пространстве творчества Ф. М. Достоевского. Обычно попытки анализировать «подпольного» человека уводят авторов в сторону идеологии и даже политики, т. е. исследования оборачиваются критикой почвеннических убеждений Ф. М. Достоевского. Мы же хотим сосредоточиться именно на философско-антропологическом анализе типа и показать, что через него Ф. М. Достоевский открыл двойственность человека как фундаментальный антропологический принцип. Из значимых исследований в области философского осмысления типа можно выделить трактовку К. В. Мочульского, данную им в работе «Гоголь. Соловьев. Достоевский», где он очень точно, на наш взгляд, заметил: «парадоксы подпольного человека — не причуды какого-то полусумасшедшего чудака, а новое откровение человека о человеке (курсив автора)». Мы ставим своей задачей в данной статье ответить на вопрос о том, каково же это самое новое откровение о человеке? Что такого увидел Ф. М. Достоевский в этом типе, что не было сказано о человеке до него? И наконец: как проявляется двойственность человека, о котором рассказал нам Ф. М. Достоевский?
«Подпольной человек» и его осмысление в русской философии
Русский философ экзистенциального толка Л. И. Шестов (1866—1938) обращался к творчеству Ф. М. Достоевского не раз, например, в работах «Киркегард и Достоевский» (1935), «Достоевский и Нишце. Философия трагедии» (1903), «Преодоление самоочевидностей. (К столетию рождения Ф. М. Достоевского)» (1929), «Пророческий дар (К 25-летию смерти Ф. М. Достоевского)» и др. Наиболее интересной для нас в рамках данного исследования становится работа «Достоевский и Ницше. Философия трагедии», поскольку именно в ней, анализируя перерождение убеждений Ф. М. Достоевского, Л. И. Шестов наиболее часто обращается к типу «подпольного человека». На ее анализе мы и сосредоточим свое внимание. Стоит сначала ответить на вопрос о том, почему вообще Л. И. Шестов называет философию Ф. М. Достоевского философией трагедии? Потому что, согласно его взглядам, сочинения Достоевского не содержат ответы, а пытаются поставить один, самый главный вопрос: «имеют ли надежды те люди, которые отвергнуты наукой и моралью?». Как и было сказано выше, в своей работе Л. И. Шестов обращается к попытке проследить перерождение убеждений Ф. М. Достоевского, о котором последний сам заявлял. Однако писатель при этом считал, что это не любопытно и останавливаться на этом не следует. Для Л. И. Шестова это кажется очень любопытным, и в своих попытках разгадать это он обращается именно к «Запискам из подполья». Объявляя Достоевского большой психологической загадкой для исследователя, Л.И. Шестов обращается к его героям, как к попытке понять самого Ф. М. Достоевского. Главная мысль при этом заключается в том, что все «подпольные» герои Ф. М. Достоевского, — это сам Достоевский. Как полагал Шестов, Достоевский обманывался, считая, что это не желания и суждения его собственного я, а голоса выдуманных им героев. «Ему самому страшно было думать, что подполье, которое он так ярко обрисовывал, было не нечто ему совсем чуждое, а свое собственное, родное». Мало того, согласно идеям Л.И. Шестова Ф. М. Достоевский создал своих «положительно — прекрасных» героев только как попытку самому спрятаться от себя, ведь ему стало страшно от тех ужасов, которые открылись внутри него, и, чтобы их не видеть, он пытался закрыться от них придуманными идеалами. Далее Шестов пишет о том, что почти все прочие герои Достоевского, а именно Раскольников, Кириллов, Иван Карамазов и др. по сути своей есть тоже тип «подпольного человека». Следует заметить при этом, что оснований, которые позволили бы отнести данных героев к этому типу, Л. И. Шестов не разъясняет. Он только продолжает утверждать, что «Записки из подполья» — это попытка Ф. М. Достоевского отречься от собственного прошлого и хотя бы в фантазиях бросить в грязь идеалы добра и служения человеку, которыми он беззаветно упивался всю свою прежнюю жизнь. «“Записки из подполья” — это раздирающий душу вопль ужаса, вырвавшийся у человека, внезапно убедившегося, что он всю свою жизнь лгал, притворялся, когда уверял себя и других, что высшая цель существования — это идеал служения последнему человеку». Ведь в этот момент, по Шестову, в душе Достоевского проснулось что-то настолько стихийное и страшное, что он стал еще «истеричнее выкрикивать» свои прежние идеалы, чтобы скрыть правду. И именно этой двойственностью (курсив наш — К. Х.) проникнуты все его дальнейшие произведения.
Стоит заметить, что единственным основанием всех своих идей Л. И. Шестов объявляет тот факт, что Ф. М. Достоевский писал в предисловии, что «Записки…» вымышлены, а значит, они как раз не такие. Кроме того, как уже было сказано выше, Шестовым недостаточно глубоко анализируется «подпольный человек» как таковой. Он объявляется носителем чего-то страшного и стихийного, т. е. имеет исключительно негативную коннотацию. Откуда берется страшное и стихийное? Мог ли Ф. М. Достоевский так однобоко относиться к человеку, что всю свою жизнь рисовал просто страшного человека, застывшего в своей хаотичности? Не анализируется природа страха Ф. М. Достоевского перед самим собой, о которой пишет Л. И. Шестов. Ведь человек вообще, как глубоко заметила профессор Н. Н. Ростова, начинается с непредметного страха своей метафизической неуместности: «Страх — это первая эмоция человека, тот антропологический минимум, который позволяет говорить о феномене под названием человек». Не становится понятно, на каком основании другие герои Ф. М. Достоевского объявляются «подпольными людьми». Идея об объединяющем их внутреннем страшном и стихийном, а также об эгоизме, который есть следствие муки от встречи с собой, не кажется нам убедительной так же, как и мысль о том, что все творчество Ф. М. Достоевского после «Записок…» можно в конечном счете свести к попытке реабилитировать права «подпольного человека», т. е., следуя логике Л. И. Шестова, свои собственные. И наконец, сам факт именно такого перерождения убеждений Достоевского, каким его представлял себе Шестов, многими мыслителями ставится под сомнение. Например, В. В. Зеньковский, оппонируя Шестову, писал: «Наоборот, его [Достоевского — К. Х.] мысль до конца дней движется в линиях антиномизма, — в частности христианский натурализм, с одной стороны, и неверие в «естество», с другой, продолжают все время жить в нем, так и не найдя завершающего, целостного синтеза».
На наш взгляд, в похожем на Л. И. Шестова ключе осмысляет «подпольного человека» Ф. М. Достоевского С. А. Никольский. В данном исследовании мы сосредоточимся на анализе двух его статей, а именно «“Подпольность” как мессианский национализм: трагическая ошибка Достоевского» (2013) и «Достоевский и явление “подпольного” человека» (2011). Идейно, как нам кажется, эти статьи выражают одни и те же мысли и дополняют друг друга. Это подтверждается примечанием самого С. А. Никольского, согласно которому обе эти статьи посвящены одной и той же проблеме. Статья «“Подпольность” как мессианский национализм: трагическая ошибка Достоевского» начинается с утверждения о том, что вся жизнь «подпольных» людей складывается исключительно из того, что они «постоянно что-то со своим грязным нутром делают, все время в его грязи копошатся», ведь «копаться в грязи — их главное занятие». Почему это так? Потому что такой человек весь заполнен грязью. Вообще, согласно взглядам С. А. Никольского, «человек занимает Достоевского в координатах «“от земли — в ее глубины”, в устремлении к аду, во тьму». К «подпольным» С. А. Никольский относит чрезвычайно много героев Ф. М. Достоевского, а именно Раскольникова, Свидригайлова, Рогожина, Ганю Иволгина, Ипполита Терентьева, Лебедева, Ламберта, Мермеладова, Ставрогина, Смердякова, Верховенского, Федора Павловича, Дмитрия и Ивана Карамазовых, и даже частично Разумихина. Последний, по Никольскому, иногда проявляет свою «подпольность», но будучи «нормальным» человеком сразу после раскаивается и вообще всегда старается «подполье» в себе удержать. «Подпольность» при этом бывает двух видов: бытовая, или повседневная, и философическая, или идейная. Первая не требует от личности никакой идейной основы и рефлексии. Представителями такой «подпольности», согласно С. А. Никольскому, становятся Мармеладов, Смердяков и Митя Карамазов. Вторая подпольность вырастает на идеях, которые герои долго и мучительно изобретают, обсуждают и проживают. Ее лицами становятся Иван Карамазов и Аркадий Свидригайлов, а кульминации она достигает в образах Николая Ставрогина и Петра Верховенского. Во втором случае речь будет идти о «подпольности» высшего разряда, т. к. в отличие от первой она не ограничивается просто «мечтаниями», а в ней присутствует логический анализ. Последний аргумент нам кажется значимым ввиду того, как автор трактует значение слова «высшее». Не метафизически содержательное, а именно аналитическое с присутствием строгой логики. Пугает С. А. Никольского даже не «грязный» «подпольный человек» как таковой, а тот факт, что, согласно идеям самого Ф. М. Достоевского, — это человек русский и среди нас таких большинство. Это дает возможность С. А. Никольскому продолжать развивать свои идеи и прийти к мысли о том, что Достоевский нашел не что иное, как «болезнь» своего народа. При этом С. А. Никольский убежден, что источник подпольности для Достоевского лежал исключительно в либерализме. Именно это и есть первая и главная ошибка мыслителя в глазах автора данных статей. Ф. М. Достоевский, как известно, был почвенником и именно в этом видел возможность избавления личности от разлагающих, по его мнению, либеральных идей, шедших в Россию извне. Но ведь даже герои самого Достоевского, такие, как Мармеладов или Митя Карамазов, были глубоко больны «подпольностью», а идеи либерального толка им взять было просто неоткуда, в отличие, например, от Ивана Карамазова, получившего образование на Западе, — рассуждает Никольский, ища прорехи у Достоевского. Таким образом, по его мнению, получается, что сам источник разложения человека был найден Достоевским неверно, и в либерализме он лежать не может. А коренится он, по его мнению, именно в том самом почвенничестве, за которое так ратовал Достоевский. В конечном счете С. А. Никольский делает вывод о том, что почвенничество — это форма патриотического ослепления, пронизанная идеями мессианского национализма. Кроме того, С. А. Никольский замечает, что и сам Ф. М. Достоевский, и русская религиозная философия в целом отказываются замечать нереализуемость в реальности идеи согласования хлеба насущного и свободы. Лекарство от этого С. А. Никольский видит в преодолении центризма, которое, во-первых, пойдет на пользу нам самим, а, во-вторых, поможет переменить о нас мнение других народов. Продолжая оппонировать Достоевскому, он пишет о том, что последний предлагает целебные «травяные настойки» своей стране вместо «необходимого хирургического вмешательства». Отказываясь видеть искони присущий русской философии антропоцентризм, попытки оправдать человека и сохранить его как достойный внимания объект познания, С.А. Никольский предлагает обрушить то, что формирует русскую самобытность, и то, что можно назвать попытками мыслить по-русски.
Статья под названием «Достоевский и явление “подпольного” человека», как уже было сказано ранее, идейно дополняет проанализированную выше. Мы берем статьи не в том порядке, в котором они выходили, что не кажется нам важным ввиду их внутренней идейной и смысловой связи. К тому, что уже было сказано, она добавляет не так много, а именно С. А. Никольский считает, что Ф. М. Достоевский исследовал в человеке только духовно-ущербное, потому что думал, что поможет ему от него избавиться, выставив на свет. О каком духовно-ущербном тут речь? Герои Ф. М. Достоевского, согласно взглядам С. А. Никольского, в отличие от героев других писателей даже не подозревают о связях человека, например, с природой, а еще «никогда не поднимают голову и потому не подозревают о существовании неба». Более того часто они люди совсем безродные, потому что никоим образом не согласовывают свою жизнь с заветами предков. В этой работе также утверждается идея о том, что «подпольный человек» — это сам Ф. М. Достоевский, ведь именно в этой повести он «утверждает собственное самоназвание, фиксирует свое отношение к миру и положение в нем». «Подпольному человеку» также вменяется автором в вину, что он не принимает ничего позитивного, если оно идет с Запада и пытается изменить логику реальности не постепенными делами, а рывком, «показав судьбе язык». В противовес реальным «подпольным людям» Ф. М. Достоевский рисует идеального, но вымышленного человека, князя Мышкина, который создан как некая конструкция, состоящая из близких писателю философских идей, и, безусловно, все позитивное, что есть в герое, согласно Никольскому, это лишь некоторые черты Западного человека.
Таким образом, аргументы против «подпольного человека» становятся скорее аргументами против почвеннических взглядов Ф. М. Достоевского, который, по мнению С. А. Никольского, в отличие от него самого не ценил «позитивного» западного влияния на Россию. Статья больше напоминает попытку вести идеологический спор с Ф. М. Достоевским, чем философское исследование его творчества. При этом суть той самой западной позитивности также остается от читателя скрытой. Сам по себе «подпольный» тип, который даже вынесен в название статей, не получает никакой философской трактовки, а просто отторгается на основании ряда оценочных, исключительно негативных, характеристик, которые вряд ли применимы тогда, когда мы строим философское рассуждение о концептуализированном в пространстве чьего-то творчества герое. Более того, остается непонятным, почему рассуждающий о сознании «подпольный человек» объявляется «грязным»? Ведь сознание — одна из важнейшних философских категорий, рефлексировать по поводу которой философы и мыслители пытались на протяжении тысячелетий.
В отличие от Л. И. Шестова, С. А. Никольский выделяет те признаки, которые, на его взгляд, объединяют «подпольных людей» и даже выявляет разные виды «подпольности». Однако эти признаки кажутся настолько неконкретными, что на их основании «подпольными» или «проявляющими подполье» можно назвать абсолютно всех людей в принципе, а не только героев Ф. М. Достоевского. Почему такие разные герои, как Разумихин, Митя Карамазов и Мармеладов вообще оказываются одним типом? Какие философские основания позволяют С. А. Никольскому делать такие утверждения, нам не становится понятным из его статьи. Даже если мы примем гипотезу автора о том, что почвенничество — это исток подполья, то мы все равно не поймем из его рассуждений, что такого было в том самом почвенничестве, что из него «вышел» «подпольный человек». Более того, если последовательно развивать данную мысль, то из нее следует, что человек вообще опосредован только внешним на себя влияниям, т.е. тем, что Достоевский называл «среда заела». Но неужели человек формируется только внешним причинением и этим и ограничивается? И чем «подпольный» человек все же отличается от другого, не подпольного? Какой антропологический минимум вообще позволяет говорить нам о человеке как таковом? Можем ли мы говорить о героях Ф. М. Достоевского как о тех, единственная характеристика которых — это «копошащиеся в своей грязи», и настолько упрощать антропологические типы, созданные в пространстве творчества писателя? В творчестве такого автора, который в качестве своего жизненного и творческого кредо провозгласил: «человек есть тайна. Ее надо разгадать, и ежели будешь разгадывать ее всю жизнь, то не говори, что потерял время; я занимаюсь этой тайной всю жизнь, ибо хочу быть человеком». На наш взгляд, именно философия Ф. М. Достоевского будучи глубоко антропологичной, представляет для исследователей возможность вновь воспринимать человека как высшую ценность и обосновать его бытийственную уникальность. И это то важное, что оказывается напрочь проигнорированным в исследовании С. А. Никольского.
Кроме того, мысль С. А. Никольского о том, что сам Ф. М. Достоевский был «подпольным», также не получает анализа, а просто утверждается. Здесь хочется вспомнить слова, принадлежащие М. М. Бахтину, «Достоевский, подобно гетевскому Прометею, создает не безгласных рабов (как Зевс), а свободных людей, способных стать рядом со своим творцом, не соглашаться с ним и даже восставать на него».
«Двойник»: первая попытка концептуализации «подпольного» человека
В 1846 году Ф. М. Достоевским была опубликована повесть «Двойник». Эта работа преимущественно не была положительно оценена критиками, которые за два года до этого, отдавали должное литературному таланту автора «Бедных людей». Отношение самого Достоевского к этой повести стоит отдельно отметить, о главном герое «Двойника», Голядкине, он писал так: «мой главнейший подпольный тип (надеюсь, что мне простят это хвастовство в виду собственного сознания в художественной неудаче типа)». Именно эти слова писателя позволяют нам утверждать о том, что первой попыткой Ф. М. Достоевского концептуализировать «подпольного» человека становится именно Голядкин. Оценивая собственную попытку как неудачную, писатель даже планировал переиздание повести, о чем свидетельствуют его пометки в записных книжках за 1860—1862 гг. Также в 1877 г. в «Дневнике писателя» Ф. М. Достоевский напишет: «Повесть эта мне положительно не удалась, но идея ее была довольно светлая, и серьезнее этой идеи я никогда ничего в литературе не проводил. Но форма этой повести мне не удалась совершенно».
Итак, в повести «Двойник» мы знакомимся с главным героем Яковом Петровичем Голядкиным. Иногда у него бывают такие периоды, когда он лежит «не вполне уверенный, проснулся ли он или все еще спит, наяву ли и в действительности ли все, что около него теперь совершается, или — продолжение его беспорядочных сонных грез». В один из дней Яков Петрович собирается и без назначенной встречи едет к доктору медицины и хирургии Крестьяну Ивановичу Рутеншпицу. Врач смотрит на Голядкина косо и тщетно пытается понять, с какой целью тот приехал. Яков Петрович садится на стул и с дрожащими губами начинает говорить: «Я хочу сказать, Крестьян Иванович, что я иду своей дорогой, особой дорогой», «я не так, как другие. Зато я, Крестьян Иванович, действую», «действую не втихомолку, а открыто, без хитростей, и хотя бы мог вредить, и очень бы мог, и даже знаю, над кем и как это сделать». Голядкин, не будучи в состоянии остановиться, продолжает сообщать доктору, что он не любит полуслов, «мизерных двуличностей» и гнушается клеветой и сплетнями. Крестьяну Ивановичу начинает казаться, что Голядкина нужно лечить медикаментами, и он предлагает ему рецепт.
Дальше господин Голядкин садится в экипаж и едет на день рождения дочери своего благодетеля Олсуфия Ивановича Берендеева Клары Олсуфьевны. Там ему сообщают, что пускать его на праздник не велено, чем изумляют. Упорный господин Голядкин не сдается и проникает на праздник из сеней, что на черной лестнице. Начинает он сразу с поздравлений в адрес именинницы, но запинается и замолкает. Голядкин пытается найти себе стул, однако и это у него не выходит, пробует пригласить на танец именинницу и спотыкается. Не сумев совладать с реальностью, господин Голядкин начинает грезить: он представляет, что с потолка сорвется люстра и он бросится спасать Клару Олсуфьевну. Спасши ее, он скажет лишь: «Не беспокойтесь, сударыня; это ничего-с, а спаситель ваш я». Грезы Голядкина не объективируются, и он видит, как к нему направляется Герасимыч с целью вывести из зала. Оскандалившийся господин Голядкин утверждает слуге, что он «здесь у себя, то есть на своем месте», но места этого за Голядкиным никто не признает, и Герасимыч силой выдворяет его из квартиры. Оказавшись на улице, господин Голядкин внезапно раздваивается и, придя домой, он видит своего двойника: «тот, кто сидел теперь напротив господина Голядкина, был — ужас господина Голядкина, был — стыд господина Голядкина, был — вчерашний кошмар господина Голядкина, одним словом, был сам господин Голядкин». Что же случилось с господином Голядкиным? Внезапно он обнаружил, что то, что он думает о себе и то, что о нем думают другие, — это совсем разные вещи. Более того в своих фантазиях он занимает в обществе одно место, а в реальности совсем другое. Господин Голядкин попытался объяснить Крестьяну Ивановичу, что он вот такой Голядкин, не интригующий и действующий, а доктор с ним не согласился и решил его лечить. Он постарался объяснить слуге и гостям Олсуфия Ивановича, что он на своем месте, однако его силой вытолкнули из квартиры. Оказавшись перед невозможностью соединить собственные грезы и реальность, сдавленный ощущением невозможности совладать с действительностью, Голядкин распадается на себя и своего двойника. Один будет жить в мире, а другой в картине мира. В первом все будет держаться причинными отношениями, а во втором усилиями субъекта. Человек, живущий в мире, всегда сталкивается с чувством будто он «недоделанное пробное существо, созданное в насмешку». А человек, живущий в картине мира, наполняет ее смыслами, лежащими в пространстве человеческой субъективности. Ведь «быть субъективным — значит предоставлять себя действию сил воображаемого», а последнее в свою очередь «значит изменить сознание, создать в нем второй план». Что нужно, чтобы этот план появился? «Заселить мир призраками, т. е. такими вещами, которых нет, но которые существуют, если к ним относятся как к чему-то действительно существующему». Будучи распятым между действительностью и грезой и сталкиваясь с невозможностью их хоть как-то примирить, герой оказывается раздвоенным, но его двойственность будет заключаться не в противопоставлении тела и души, как провозгласил Платон, а в его принадлежности субъективности. Голядкин живет не среди вещей, а среди мнимостей, т. е. не среди того, что существует, а среди того, что дано ему посредством его воображения.
«Записки из подполья»: радикализация типа
Повесть «Записки из подполья» (1864) является, пожалуй, самой радикальной попыткой Ф. М. Достоевского изобразить «подпольного человека». В них, как справедливо заметил В. В. Розанов: «Безграничность, неуловимость, всеобъемлемость “я хочу”, наконец, всеправность “я хочу” Достоевский противоположил всемирному “я понимаю”. И его “я хочу” разбило “они понимают”». В отличие от Голядкина, который все же сохранил хоть какие-то связи с обществом, герой «Записок…», получив наследство, уходит в подполье на сорок лет, радикально разрывая свои связи с людьми, т. е. освобождает себя от любого внешнего причинения. Дистанция от мира помогает герою перейти в режим молчания, который, согласно тезису профессора Ф. И. Гиренка, позволяет открыть в себе свою самость, ведь: «когда человек говорит, он, наоборот, дистанцируется по отношению к самому себе и посредством языка открывает себя внешнему». Итак, «злой, непривлекательный» герой «Записок…» много рассуждает о сознании и приходит к выводу о том, что «слишком сознавать — это болезнь, настоящая, полная болезнь. Для человеческого обихода слишком было бы достаточно обыкновенного человеческого сознания, то есть в половину, в четверть меньше той порции, которая достается на долю развитого человека». Кроме того, он постоянно воздействует сам на себя: «Я стыдился; до того доходил, что ощущал какое-то тайное, ненормальное, подленькое наслажденьице возвращаться, бывало, в иную гадчайшую петербургскую ночь к себе в угол и усиленно сознавать…и внутренно, тайно грызть, грызть себя за это зубами, пилить и сосать себя до того, что горечь обращалась наконец в какую-то позорную, проклятую сладость и наконец — в решительное, серьезное наслаждение!». Что происходит с отрезавшим себя от мира «подпольным человеком»? Оставаясь один на один с собой, он сталкивается с «непредметным страхом собственной метафизической неуместности» и оказывается в «избыточном пространстве, которое не описывается законами природы». Что делать человеку там, где перестали действовать законы природы? Учреждать собственный порядок, «двигаться в мире на ощупь, глядя на него нутряным взором субъективности». В попытках сделать это «подпольный человек» при помощи аффекта воздействует сам на себя. А еще он провозглашает собственное хотение главным из того, что нужно человеку, ведь если тот перестанет хотеть, то «тотчас же обратится он из человека в органный штифтик или вроде того, потому что что такое человек без желаний, без воли и без хотений, как не штифтик в органном вале?». Кроме того, «подпольный» человек хочет жить в хрустальном здании, которого «по законам природы не полагается». «Но какое мне дело, — восстает он, — что его не полагается. Не все ли равно, если он существует в моих желаниях, или, лучше сказать, существует, пока существуют мои желания?». Сознание становится для «подпольного человека» тем, что удваивает реальность, создавая в ней второй план. А значит и делает человека чем-то, что «всегда больше, чем он есть», потому что, расширяя реальность посредством мнимостей, рождающихся внутри его сознания, человек «определяется модусом ускользания от что». Воображая дворец там, где в реальности курятник, «подпольный человек», как говорит Ф. И. Гиренок, проделывает работу по преодолению бессмысленности мира. Где «подпольный человек» берет смыслы? Они рождаются в горизонте сознания и становятся специфическим следом существования человека, как того, кто способен воображать. Что значит воображать? Это значит благодаря сознанию удваивать мир до картины мира.
Таким образом, «подпольный человек» есть тот, в ком раскрылась идея двойственности человеческой природы. Основным его признаком мы назовем разорванность сознания. Он у себя один, для мира другой. Ему кажется, что он занимает в реальности вот то место, а его оттуда выгнали. Действительность для него подменена тем, что он воображает вместо нее, за счет чего граница между сном и явью, реальностью и грезой становится пластичной.
«Подросток» как «подпольный человек»
В одном из самых недооценённых, на наш взгляд, романов «Великого пятикнижия» Достоевского мы встречаемся с только что окончившим курс гимназистом по фамилии Долгорукий, который пишет автобиографию, удивительно напоминающую записки «подпольного человека». Схожесть эта сразу бросается в глаза. Во-первых, Долгорукий так же, как и герой «Записок из подполья» воображает себе своего читателя, его возражения, мысли и упреки, и в попытках предвосхитить их силится на все дать ответ. Предполагая своего читателя «расхохотавшимся», он сразу говорит «этому господину», что тот сам ничего не смыслит. Во-вторых, будучи, как и герой «Записок…» в уединении «мечтательной и многолетней жизни» тот взращивает идею сделаться Ротшильдом, которая наконец «поглотила всю его жизнь», и «помешала гимназии, помешала и университету». Долгорукий оказывается тем же самым человеком с приоритетом внутреннего над внешним, что был и Голядкин и герой «Записок…». Он «бестрепетно стал за идею, ибо был матемачески убежден», как когда-то позже будет убежден Иван Карамазов. Долгорукий решил «бросить все и уйти в свою скорлупу», «спрятаться в нее как черепаха», «сделать себе угол и жить в углу» и наконец быть со своей идеей, которой он ни за что не изменит, даже предложи ему в реальности счастье, с которым можно прожить хоть десять лет. Вот эта «двойственность планов» (курсив наш — К. Х.), и наполняла всю его дальнейшую жизнь. О какой двойственности речь? О той же, о которой мы говорили, когда речь шла о Голядкине и «подпольном человеке», о раздвоенном мире человека, причиной которого является сознание: с одной стороны, идея, с другой, — реальная жизнь. Но действительности в жизни героя очень мало, ему не до нее, ведь он «мечтал изо всех сил и до того, что ему некогда было разговаривать». Особенно хотелось бы отметить нарочито подчеркнутое самим подростком несовпадение фантазии о жизни и реальной жизни. Идея сделаться Ротшильдом путем накоплений, которая завладела всем существом героя, никак не была проверена на практике, что понимает и сам Долгорукий, однако, предупреждая возражения, он заявляет: «я не знал практики; но я три года сряду обдумывал и сомнений иметь не мог. Я воображал тысячу раз». Воображенное тысячу раз подчинит себе реальность — уверен герой. Кроме того, Ротшильдом Долгорукий мечтает сделаться вовсе не для того, чтобы хорошо жить или позволить себе что-то, чего раньше он позволить не мог. Ему хочется жить бедняком, но осознавать, что он богач. Он хочет богатства как идеи, без переноса в жизнь. Будучи богатым, он не собирается даже позволять себе съесть хороший обед, он съест кусок хлеба и ветчины, а в остальном «будет сыт своим сознанием». «Тайное сознание могущества нестерпимо приятнее явного господства», — восклицает подросток Долгорукий, в очередной раз подчеркивая приоритет внутреннего над внешним. А затем подобно «подпольному человеку» говорит нам: «нет, мне нельзя жить с людьми; я и теперь это думаю; на сорок (курсив наш — К. Х.) лет вперед говорю. Моя идея — угол». Сразу вспоминается сорокалетний срок подполья, о котором шла речь ранее. Почему нужно в угол? Потому что в углу мир подчиняется воображению, а в реальности нет: «до сих пор, во всю мою жизнь, во всех мечтах моих о том, как я буду обращаться с людьми, — у меня всегда выходило очень умно; чуть же на деле — всегда очень глупо».
Сидя в своем подполье, герой «Записок…» требовал одного собственного хотения, права свою волю заявить. Вторя ему, Долгорукий, настаивает на своей свободе: «личная свобода, то есть моя собственная-с на первом плане, а дальше знать ничего не хочу», и следом вопрошает: «куда вы денете протест моей личности в вашей казарме?». Он восстает на разумность, декларируя: «и за все это, за ту маленькую часть срединной выгоды, которую мне обеспечит ваша разумность, за кусок и тепло, вы берете взамен всю мою личность?». Но Долгорукий не готов отдавать свою личность и жить по законам мира, он отстаивает свое право на сознание и свободу. Как человек, который больше «мечтает под одеялом», чем живет, Долгорукий, фантазируя о своих отношениях с женщиной, замечает, что она будет смеяться над ним, как «над мышью». Эта метафора, на наш взгляд, есть прямое продолжение образа человека как «усиленно сознающей мыши», о котором не единожды говорил герой «Записок из подполья». Ну и наконец, в 4 главе первой части подросток прямо называет то, что он пишет, «записками». Таким образом, мы можем утверждать, что главный герой романа «Подросток» является очередной попыткой Ф. М. Достоевского концептуализировать «подпольного человека». Он также живет с приоритетом внутреннего над внешним, т. е. является человеком обратной перспективы. Он постулирует ценность свободы и личности, отрицает разумность и живет, «придавленный идеей». Откуда берется идея? Она становится тем, что возникает у человека в горизонте сознания, как у того, кто принадлежит субъективности и затем своей волей пытается удержать рожденные внутри него смыслы в реальности.
Выводы
Преподобный Иустин Попович, исследуя творчество Ф. М. Достоевского, справедливо заметил, что «Сознание — самая издевательская привилегия, которую имеет человек». «Нервозная, измученная и раздвоившаяся природа людей» долго терзала и самого Ф. М. Достоевского, который пытался понять, что же значит двойственность человеческой природы. Ответ на этот вопрос меньше, чем за два года до смерти, он дал в своем письме Е. Ф. Юнге, в котором написал: «Что Вы пишите о Вашей двойственности. Но это самая обыкновенная черта у людей… не совсем, впрочем, обыкновенных. Черта, свойственная человеческой природе вообще, но далеко-далеко не во всякой природе человеческой встречающаяся в такой силе, как у Вас. Вот и поэтому Вы мне родная, потому что это раздвоение в Вас точь-в-точь, как и во мне, и всю жизнь во мне было. Это большая мука, но в то же время и большое наслаждение. Это — сильное сознание, потребность самоотчета и присутствие в природе Вашей потребности нравственного долга к самому себе и к человечеству. Вот что значит эта двойственность». Нам кажется, что «подпольный человек» и был попыткой Достоевского нарисовать того самого героя с двойственной природой. Им оказывается такой человек, сознание которого разорвано и не может восстановиться. Он живет, редуцируя для себя мир наличного, где действительность для него все равно, что «каменная стена», от которой он прячется в пространстве собственных грез. «Подпольный человек» удваивает реальность, удерживая в ней своей волей то, что родилось в горизонте его сознания. Он подчинен воздействию аффекта, т.е. внутреннему воздействию на самого себя, а не эмоции, т.е. внешнему причинению. «Подпольный человек» Достоевского оказывается тем, кто, принадлежа субъективности, наполняет реальность смыслами, которых в ней до его появления не было.
Холоднова Ксения Николаевна, Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, философский факультет, аспирант кафедры философской антропологии
Источник: журнал «Социум и власть» № 1 2024