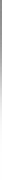Многих русских людей, художников и писателей прошлых столетий, манила не просто красота, а совершенство эллинских статуй и картин «Божественного Рафаэля». Герои произведений Ф.М. Достоевского рассуждали о красоте как о спасительнице мира. Над письменным столом писателя висела репродукция картины Рафаэля «Сикстинская Мадонна». Кабинет П.А. Флоренского в Сергиевом Посаде украшали фотографии античных статуй. Священник и религиозный философ С.Н. Булгаков писал о спасительной силе красоты, воплощенной в античном искусстве, и о «принципе отвлеченной чувственности», воплощенном в лучших произведениях древности. В трудах обоих философов – Флоренского и Булгакова – встречается выражение «светлое небо греческой религии». По определению С.Н. Булгакова, «Софийная красота мира» впервые получила воплощение именно в античной скульптуре. Поэтому в русской православной культуре возникает понятие особого рода: «духовная телесность». В древнегреческой философии, в частности у Аристотеля, соединение сущности и формы предмета обозначалось термином «энтелехия» (греч. Entelechia – завершение, осуществленность). В богословском понимании, энтелехия есть «душа тела». Булгаков выстраивает иерархически связанный ряд понятий: софийность – телесность – красота – искусство. При этом философ не скрывает, что из-за двойственности мирской красоты (до ее воссоединения с небесной) существует соблазн исключительно плотской красоты, непреображенной телесности (античное искусство в лучших произведениях сумело избежать этой опасности). Такая красота – ядовитая приманка, подделка, она может погубить душу человека. Красота как «обóженная телесность» спасет мир, в отличие от «красоты содомской», упоминаемой в монологе Дмитрия Карамазова из романа Достоевского: «Ужасно то, что красота есть не только страшная, но и таинственная вещь. Тут дьявол с Богом борется, а поле битвы – сердца людей». В традициях русской православной эстетики, к примеру, в теософии софийности В.С. Соловьева, утверждается принцип единения красоты небесной и красоты земной.
В западноевропейской традиции сложился иной подход. Французский ученый-медиевист Эмиль Маль, автор книги «Французское религиозное искусство XIII века» (1897), отмечал, что в группе «Встреча Марии и Елизаветы» западного портала центральных ворот собора в Реймсе (1225–1245), в трактовке головы Марии очевидны античные реминисценции (рис. 1).
двойной клик - редактировать изображение
Рис. 1. Статуи Марии и Елизаветы западного портала центральных ворот Собора в Реймсе
Э. Маль высказал предположение, что неизвестный французский скульптор мог видеть древнегреческие статуи или даже быть в Греции! Причем, голова и складки одеяния Марии выглядят по-античному чувственно, а фигура Елизаветы трактована по-готически, аскетично и жестко [2]. С.Н. Булгаков откликнулся на это наблюдение и сделал вывод, что в западноевропейском искусстве принято разделять телесную красоту (голова Марии) и жизненную правду (голова Елизаветы). Поэтому скульптурная группа Реймского собора свидетельствует о неспособности искусства Запада соединить то и другое, и только в православии, в частности, в древнерусской иконописи, оказывается возможным единение небесного и земного. В.В. Розанов, рассматривая произведения западноевропейского искусства, также отмечал нарушения софийности, разлад тела и души по причине оторванности средневековой схоластики (рациональное начало веры) от чувственного созерцания красоты Божьей. Он писал, что скульптурное изображение Мадонны на портале собора в Реймсе отличается красотой чувственной, потому что «рядом с ней схоластика обращается к интеллекту». В византийском искусстве образы Богородицы абстрактны и только в древнерусской иконописи целостно соединены отвлеченность и чувственность. По концепции Розанова любовь и эрос, душа и тело, религиозное и художественное творчество в равной степени питаются чувственно воспринимаемой красотой мира. Поэтому красота истинно художественного произведения свидетельствует, что за телесным совершенством скрыто духовное начало. По сохранившимся скульптурным произведениям, хотя и в позднейших римских репликах, мы можем судить, насколько совершенна красота пластики мужских и женских тел в античном искусстве периода классики. Когда же и где же, как не в античной Греции и Риме созданы самые совершенные образцы красоты. Все последующие – лишь вариации однажды найденной темы. Академические художники последующих веков, воспитанные на античных образцах, искренне восторгаясь искусством древних и стремясь к высокому, незаметно соскальзывали в салонность, демонстрировали изъяны вкуса и даже пошлость. Возможно, подобные оценки не совсем справедливы, но вспомним произведения Ж.-О.Д. Энгра, Ф. Жерома, П.-Н. Герена, Ф.А. Бруни и даже «Великого Карла» – К.П. Брюллова. Комментарии излишни. А это главные имена искусства классицизма. И не будем вспоминать откровенно слащавые полотна Г.И. Семирадского, С.В. Бакаловича.
Бесспорно, что уникальное сочетание красоты и чувственности, достигнутое в лучших античных статуях, более недостижимо. Кажется, Винкельман проникновенно писал о том, что античные статуи нужно медленно обходить вокруг со свечой в руках. Тогда в скользящем свете мы можем увидеть, как бьется каждая жилка. Самое удивительное, что мельчайшие, мы бы сказали сегодня, натуралистические детали, не разрушают гармонию целого и обобщенный образ идеального тела. Это свойство античной скульптуры Б.Р. Виппер определил как «тенденцию к наглядности» и одновременно к «образности, удивительной пластической, телесной выпуклости». Древние художники, безусловно, работали с натуры, используя позирующих атлетов и своих подруг – гетер и наложниц; они следовали так называемой наблюдательной анатомии. Кроме того, они использовали гипсовые отливки отдельных деталей фигуры. Старая версия о том, что мастера жарких стран постоянно наблюдали обнаженное тело и поэтому так совершенно могли его изображать, можно отнести только к воспитанию мальчиков в древнегреческих гимнасиях. На улицах и в домах мужчины и женщины из-за палящего солнца и пыли ходили в гиматиях и пеплосах, укутанные с головы до ног.
Натуралистический метод в античной скульптуре необъяснимым образом соединялся с идеализмом и обобщением форм. Лица древнегреческих статуй неиндивидуальны, а в тех случаях, когда предполагался портрет, персонаж угадывается, скорее по атрибутам, чем по индивидуальным чертам лица, как, например, знаменитый портрет Перикла работы Кресилая из Британского музея в Лондоне. Возвышенную идеализацию, сформированную традицией, в том числе в отношении отдельной личности, греки именовали словом «этос» (греч. ethos – норма, обычай, правило). В поздней античности этим термином обозначали общественное мнение, и даже государственные установления о характере прекрасного, красоты души и тела. Непременной частью этоса была мера, включающая каноны пропорций, размеры и правила расположения зданий, картин и статуй. В дальнейшем этот термин претерпел изменения. В начале ХХ столетия категорию этоса соединили с эстезисом (переживанием) в «сопричастности сущему». Надо отметить, что юношеские тела древние ваятели изображали сладострастнее женских. Фигуры богинь отвлеченны и обобщены, а юноши-атлеты – эротичны. Но это касается только изображения тела, головы тех и других совершенно абстрактны. Мы бы объяснили эту особенность более явной анатомической пластикой мужской фигуры в сравнении с женской. И, тем не менее, мы полагаем, что древние греки заложили основы стиля «унисекс». Начали они с голов, ибо, как известно, все начинается с головы, а далее… Попробуйте сами – мысленно задрапируйте статую Аполлона Бельведерского и получите Артемиду (Диану) Версальскую! (рис. 2, 3). Тела богов и богинь стали взаимозаменяемы к общей радости нынешних лоббистов толерантности и кино-бук-футурологов. Получается, что предпосылки комбинаторного метода были созданы уже в античности и существовали в латентном виде вплоть до нашего времени. Такой вот реди-мэйд античного искусства.
двойной клик - редактировать изображение
Рис. 2. Статуя Аполлона Бельведерского. Римская реплика утраченного бронзового оригинала работы греческого скульптора Леохара. 330-320 гг. до н. э. Мрамор. Ватикан, Бельведер.
Рис. 3. Диана Версальская. Римская реплика древнегреческой статуи Артемиды-охотницы работы скульптора Леохара (?) 330-320 гг. до н. э. Мрамор. Париж, Лувр.
В современном искусствознании и культурологии все большее распространение получает тема несовместимости двух эпох в истории искусства: классической, включая эпоху Возрождения, и современной: все постренессансное искусство, авангард, модернизм, потмодернизм и постпостмодернизм. По утверждению Р. Краусс, современное искусство следует разделить на «вырождающееся позитивное» (традиционное, фигуративное) и актуальное (абстрактное, или неизобразительное, творчество). К подобным взглядам близка и концепция Б. Гройса – уподобление искусства маятнику, совершающего колебания между реализмом и абстракцией как «ценным и обесцененным». По этому поводу А.К. Якимович писал: «Ренессанс и барокко, история искусств, великие эпохи, большие стили и гении прошлого – все это осталось по другую сторону великого исторического разлома. Изучать и описывать материалы старинного искусства вполне похвально, и против музеев никто не возражает. Но поддерживать старую культуру всерьез или делать вид, будто музейное искусство все еще актуально, что оно может сказать нечто действительно существенное людям ХХ века, – это никчемное занятие… реальность нашей культуры – культуры технологической и динамичной, релятивистской, скептической и саморазрушительной говорит что-то совершенно другое». Давайте посмотрим. Например, на скептическое и саморазрушительное искусство М. Шагала, или П. Пикассо. Все тела и головы персонажей полотен Шагала – коты, петухи, люди – взаимозаменяемы. Пикассо пошел еще дальше: он воспевал всю жизнь одну и ту же фигуру, одну и ту же голову. Пририсовывал или ваял нужные ему в данный момент половые признаки, и этого было достаточно. Мог и вовсе без них обойтись, либо обозначить какой-нибудь метафорой: скрипкой, кубом, или приемом, взятым из настенной клозетной графики. А еще очень любил своего сына Клода. Это заметно по портретам мальчика, например, «Клод на руках у матери», или гордое «Клод, сын Пикассо»! Гордость любого отца понять можно, а Пикассо – особенно: ведь у мальчишки были медвежьи лапы и голова-будильник (рис. 4).
двойной клик - редактировать изображение
Рис. 4. П. Пикассо. Клод, сын Пикассо (Клод с мячом). 1948. Холст, масло.
В ХХ веке, как пишет далее А.К. Якимович, классическое искусствознание, оперировавшее общими категориями стиля, направления, формы, было разрушено. На его место явилась новая англо-саксонская культура, представленная в основном американскими учеными, выходцами из Старого Света, они стали практиковать «пристальное зрение», не доверяя старым понятиям. Любые обобщения и абстрагирования, по их мнению, вредны, поскольку они искажают действительную картину, слагающуюся из нюансов и отдельных, не связанных между собой фактов. Закономерное в новой картине мира уступает место неожиданному и парадоксальному. Вместо правил – отклонения от норм и дерзкий вызов привычному. И опять мы пришли к таблице умножения имени Мориса Равеля. Но ведь отдельный факт, нюанс или нагромождение фактов не делают произведение художественным. Пример тому картины Джексона Поллока. В знаменитую «Волчицу» можно долго и пристально вглядываться, и даже можно, в конце концов, увидеть волчицу (рис. 5). Однако почему она с козьей мордой, да еще с трех сторон? С рогами? Почему у волчицы копыта и птичьи лапки? Потому что так у художника получилось, потому что это никакое не искусство, с одной стороны, и не восприятие изображенного, – с другой, ибо воспринимать по определению нечего. Со стороны зрителя – это полный произвол. Чистая фантазия, потому что зритель, пристально вглядываясь в подобные картины, может увидеть что угодно. В меру своей испорченности или одаренности. Под гнетом своих желаний. Под влиянием дурного утреннего кофе. Так можно объявить и светофоры произведением искусства, в мигании его цветов при желании каждый человек что-нибудь да усмотрит. А сколько философии в сломанных светофорах со свернутой шеей, – высокая готика!
двойной клик - редактировать изображение
Рис. 5. Дж. Поллок. Волчица. 1943. Холст, масло, гуашь, пастель. Нью-Йорк, Музей Современного искусства (МоМА)
Но ведь и мастера прошлого были не менее дерзки и необычны для своего времени, – скажете вы. Конечно же, одно не заменяет другое. Привычные виды искусства вопреки модернистским мифам не умирают, а развиваются в актуальном духовном пространстве и времени. К какому выводу мы приходим? Что все течет и изменяется? Да, это так. Но вместе с нами – человеками. Ибо мы и не выходили ни разу из той самой знаменитой реки, в которую нельзя войти дважды. Плещемся в ее водах миллион лет, каждый на свой лад, пока нас волны не выбросят на берег.
Искусство превратилось в большой бизнес. Огромный, подобный Голливуду – фабрике грез. Причем этот бизнес современные кураторы довольно цинично отождествляют с концептуализмом. Вот, к примеру, цитата из книги «Кто боится современного искусства?», авторы Кен Ан и Джессика Черази: «Сегодня концептуализмом пропитано все наше отношение к искусству – а от этого отношения, в свою очередь, зависит, каким он может быть. Вот почему в разговорном обиходе «концептуальное» стало синонимом искусства, которое не ограничено традиционными композиционными требованиями и профессиональными навыками. Больше того, основное наследие концептуализма 1960-1970х годов было призвано вернуть к жизни знаменитый тезис Дюшана о том, что искусством может быть что угодно». На примере инсталляций Дюшана известный критик Тьерри де Дюв так и заявил: произведением искусства может быть все, что угодно, поскольку «от искусства не осталось ничего, кроме имени». По его словам, «разница между объектом и точно таким же объектом, называемом художественным, состоит ровно в том, что один из них был назван искусством, а другой – нет». Более века прошло, а мы все не можем забыть унитаз Дюшана. Откровенно говоря, он победил, этот унитаз. Однако если каждый придет в искусство со своим унитазом, то, что же получится? Не будем стесняться, продумаем эту мысль до конца, и в результате получим мировое собрание горшков, то есть, снова вернемся в первобытное общество, где горшок являлся вершиной искусства. Чтобы такое не случилось, попробуем дать наименование этому так называемому искусству – выставлять горшки в пространстве. Итак, есть архаическое искусство, классическое искусство… и, допустим, функциональный показ, где куратор, коллекционер, владелец галереи, исполняя каждый свою функцию, устраивают экспозицию. То есть, например, господин N работает в жанре демонстрации предметов, а госпожа NN владеет пространством для показа предметов. Это может быть галерея, жилой дом, квартира, лужайка, поле, старая ферма, пустующий дворец, заброшенный завод, неработающий аэродром, сумасшедший дом и так далее. Но госпожу NN раздражает беспредметное пространство, ей хочется заполнить его чем-нибудь, да хоть унитазами с велосипедами. И вот он – консенсус, все в той же реке: ведь присоединили же фабрику грез к нормальному Лос-Анджелесу в начале прошлого века, потому что так удобнее всем. Теперь Голливуд – это не только постоянно обновляемая беспредметная площадка для кино-видео-бизнеса, а еще и город, настоящий, как все города мира, с инфраструктурой, жителями, политикой. Последнее нам особенно важно понять. Политика. Ибо политика госпожи NN с ее пустующими беспредметными пространствами совпадает с политикой Голливуда.
А что же происходило в древности? Как мир получил прекраснейшие образцы произведений искусства в те далекие времена? Опять же пустующие пространства, да. Но дальше все пошло по-другому: древние художники, словно специально, в сжатые сроки наполнили мир самыми лучшими произведениями, которые превзойти невозможно. Потому что были первыми в этом открытом пространстве. Когда что-то делается впервые – это раз и навсегда. Дальнейшее только вариации (мы уже давно живем в эпохе вариаций, лет пятьсот, как минимум). То, что они создали, является эталоном прекрасного и разумного. В античные времена – архитектура и скульптура, в эпоху ренессанса – живопись. Но сделано это раз и навсегда, повторить можно, превзойти нельзя. Однако господина N с его любовью к spase object’s (англ. «предметное пространство», это условное название – наше) превзойти можно и нужно, при этом нет необходимости что-либо вообще делать, тем более – навсегда. И возможностей для этого бесконечное множество, столько, сколько существует предметов на земле. Представляете, как все неисчерпаемо в этом жанре для кураторов, коллекционеров, галеристов, отвлеченных романтиков и мощных мыслителей, про критиков и говорить нечего – у них целый космос возможностей. Это как нефть – неистощимо. И как газ – всем необходимо. Качай и качай, все только рады.
А еще есть концепты, которые тоже считают произведениями искусства. Собственно, мы и живем в эпоху концепта. Любой концепт нам предлагают считать произведением искусства. Американский художник Сол Левитт писал: «В концептуальном искусстве самый важный аспект произведения – это идея или концепция. Это означает, что все спланировано и решено заранее, а исполнение является лишь формальностью. Идея становится тем механизмом, который создает искусство. Концептуальное искусство интуитивно…Как правило, оно не зависит от ремесленного мастерства художника. Для художника, занимающегося концептуальным искусством, важно, чтобы зритель с интересом интеллектуально воспринял произведение, поэтому он постарается сделать его эмоционально сухим… Единственное, что может оттолкнуть зрителя от восприятия этого искусства, – ожидание эмоционального удовольствия, воспитанного привычным общением с экспрессионистским искусством». Далее идут пространные рассуждения о банальном и скучном. Мы бы назвали этот вид деятельности концепт-эго. Концепт-эгоисты существуют во всех видах искусства. Продукт концепт-эго – это, пожалуй, единственная возможность для его создателя почувствовать себя на высоте и даже выше, почувствовать себя над другими. Но в исторически- гуманитарном плане, подобные рассуждения, подкрепляемые квадратиками, ромбиками и циферками, являются ничем. Такой продукт приносит удовлетворение только его создателю. И он это понимает, и придумывает теории об эмоционально сухом произведении искусства, особой логике восприятия, называет своего зрителя интеллектуальным, в общем, закручивает сюжет своих рассуждений так, чтобы быть интересным максимальному количеству людей, а не только маме (рис. 6).
двойной клик - редактировать изображение
Рис. 6. Экспозиция «Пространство Cube.Moscow: весь срез современного искусства за один приход». 2019.
А как же зритель, спросите вы. Потребитель продукта спейс-эннистов, концепт-эгоистов и прочих работников сферы обслуживания. Разве ему это нужно, разве это дает пищу для души, ума, сердца, желудка, в конце концов? Нет, конечно, не дает ничего. И зритель если он это и не понимает, то, несомненно, чувствует. Но о нем, зрителе, уже позаботились! Его обеспечили пищей для всего того, что у человека требует пополнений. И духовных, и душевно-желудочных. Неподконтрольным остался один орган – ум. Но, если честно, кого это пугает? Кому это мешает? Вот именно – никому, ибо, сколько их – умных? Благодарных несоразмерно больше. Примеров тому множество, вот хотя бы один из последних: художник приклеил банан к стене и дважды продал его за сто двадцать тысяч долларов. Художественное произведение представляет собой банан, приклеенный к стене скотчем серебристого цвета. Концепт-эгоиста зовут Маурицио Каттелан, а дело происходило в Париже в галерее Perrotin (рис. 7).
двойной клик - редактировать галерею
Рис.7. Каттелан М. Инсталляция. 2019. Париж, Галерея Perrotin.
Цену на третий банан Маурицио повысил до $150 тысяч. Назвал его «Комедиант», и, о чудо, это произведение спросом пока не пользуется. Мы полагаем, из-за названия. Зрители, они же потенциальные покупатели, что-то стали подозревать… Как минимум – нечестную игру, как максимум – оболванивание. Каттелан не расстроился. Он сказал, что, когда банан почернеет, его заменят новым, потому что суть заключается не в самом фрукте, а в идее. Однако об идее художник не рассказал, отметил только, что над созданием арт-объекта он работал в течение года, продумывая различные варианты. Нам представляется, что именно этот факт из всего творчества Каттелана самый интересный: целый год человек думал, как ловчее приклеить банан к стене. Такой был мучительный бананизм. И не зря мучился – двести сорок тысяч долларов он заработал. От нас, благодарных зрителей, почитателей его таланта. Ранее, в 1993 году Маурицио Каттелан, приглашенный в основную программу Венецианской биеннале, сдал отведенное ему пространство рекламной фирме, которая использовала помещение для продвижения флакона духов. И никто не удивился!
Вернемся к художникам. По Шопенгауэру, а он нам особенно симпатичен, «всем бытием руководит мировая бессознательная воля, ничем не преодолимая и к тому же злая…». Видимо, поэтому художники рождаются до сих пор и будут рождаться дальше. Так что же им делать? Застрелиться? Артур Генрихович не советует, о чем пишет русский философ А.Ф. Лосев. Шопенгауэр предлагает иной путь: «Выход за пределы мировой воли – это полное от нее отречение, полное отсутствие всякого действия и погружение только в один интеллект, созерцающий эту волю, но не участвующий в ней». Это и есть то, что Шопенгауэр называет представлением. Мир материи и все составляющие его материальные вещи, поясняет Лосев, «полон хаоса и бессмыслицы, бесконечных страданий и катастроф; и в нем самое большее, чего можно достигнуть, – это лишь скука». Объективацией воли является мир идей, представляющих собою уже понятные разуму принципы и законы всего существующего. Сама мировая воля ввиду своей бессмыслицы и безобразия не есть что-либо прекрасное и потому не может быть предметом искусства. Но погруженный в себя интеллект, будь то мировой интеллект или человеческий, созерцает эту мировую волю с полной независимостью от нее. И тогда она является музыкой, которая с точки зрения созерцающего интеллекта тем самым представляется основой мира, природы, общества и отдельного человека. Наверное, прав Шопенгауэр, рассуждая таким образом о музыкальной метафизике Вагнера. Но как быть с изобразительным искусством, если даже трактовать его максимально широко, как актуальное и предельно абстрагированное от предметности? Осмелимся утверждать, что и в этом случае «музыка для глаз», по известному выражению П. Гонзага, должна находить адекватное отражение в красоте зримых форм, «тенденции к наглядности» (Б.Р. Виппер), и «духовной телесности» по определению С.Н. Булгакова, о чем мы писали в начале статьи.
Лукина Наталия Юрьевна - библиограф и художественный критик
Источник: журнал «Культура культуры» № 2020