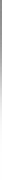Большинство отечественных и зарубежных исследователей, реконструирующих проблематику повседневности и специфику советского культурного пространства, сходятся во мнении, что в середине 1930-х годов власть инспирировала появление новой концепции лозунга, определяющей стандарты образа жизни и практики потребления. Н. Тимашев характеризует эту нормативную концепцию как “великое отступление”, Е.С. Сальникова пишет об “агитации за потребление”, а В.В. Волков и О.Ю. Гурова определяют данную идеологему как концепцию “культурности”. При этом в качестве дискурсивного маркера, давшего старт и определившего основной лейтмотив данной кампании, все авторы указывают речь Сталина на Первом Всесоюзном совещании стахановцев 17 ноября 1935 г. Точнее, конкретный фрагмент данного выступления: “Некоторые думают, что социализм можно укрепить путем некоторого материального поравнения людей на базе бедняцкой жизни. Это не верно. Это мелкобуржуазное представление о социализме. На самом деле социализм может победить только на базе высокой производительности труда, более высокой, чем при капитализме, на базе изобилия продуктов и всякого рода предметов потребления, на базе зажиточной и культурной жизни всех членов общества”. Исследователи сходятся в определении не только “стартовой точки” пропагандистской кампании, но и ключевых элементов продвигаемой в ходе этой кампании концептуальной модели. В.В. Волков замечает, что одним из аспектов нормативного поворота второй половины 1930-х годов становятся призывы содержать в чистоте одежду и тело. В дискурсе того времени “чистота” и “гигиена” фактически выступают синонимами “культурности”. Об определении “культурности” через понятие чистоты свидетельствуют материалы периодической печати того времени: “Чистота и опрятность по справедливости считаются признаками культурности. Нельзя назвать человека культурным, если он не содержит свое тело в чистоте”. Помимо требования соблюдать личную гигиену, важным аспектом нормативной концепции являлось отождествление понятия “культурности” с вежливостью и хорошими манерами. Ноябрьский номер журнала “Крокодил” 1935 г. (№ 30/31) был полностью посвящен проблеме поведения советского человека и вышел под шапкой “О хорошем тоне и приличном обществе”. А ведь еще несколькими годами ранее такие слова в советской печати можно было представить разве что как насмешку над буржуазными нравами! Важность данного аспекта “культурности” была обозначена следующим образом: “К … веселой, радостной жизни надо подготовиться, как это говорится, всерьез и надолго. И не все еще, надо признаться, обучились великолепному искусству весело жить и весело работать. Пора хмурость человека с портфелем объявить простой невежливостью. … Нам нужна приветливость на работе, в учреждении, в общении, с соседом за письменным столом или в цеху. У нас должен быть свой хороший тон, говорящий … о том, как взрослые люди обязаны держать себя на работе и в быту”. В номере помещены сюжеты, в сатирическом ключе пропагандирующие поведенческие нормативы на транспорте, во время дискуссий, в обществе, в кино, перед комиссиями, а также практики приветствия женщин, произнесения речей и т.д. В частности, “…в бане, которая снабжена всем необходимым и даже водой, воспитанный человек должен вести себя мягко и с достоинством. Хватание у соседа из-под рук мыльной пены, убегание с чужой шайкой, сон под открытым душем, а также стирка верхнего платья под краном — все это может служить темами для небогатых фельетонов, а никак не линией поведения воспитанного человека в бане”.
Понятие “культурности” в дискурсе 1930-х годов отождествлялось с высокими стандартами индивидуального потребления. Фактически, в рамках данной концептуальной модели обозначился важный структурный и ценностный поворот в культуре и нормативных стратегиях потребления советских граждан — переход от эстетического пуританизма послереволюционного периода, к толерантности по отношению к “буржуазной жизни” с ее шиком, роскошью, уютом и удовольствиями. Как замечает В. Данхэм, в 1930-е годы “ценности частной жизни превратились в общественную норму”. Одной из наиболее актуальных тем было продовольственное потребление. Идея продовольственного изобилия находит отражение в плакатах, на страницах газет и популярных журналов. Даже в сатирическом издании “Крокодил” встречаются сюжеты, иллюстрирующие улучшение продовольственного снабжения и расширение возможностей потребления в середине 1930-х годов. На страницах печатных изданий и в рекламных плакатах разворачивается настоящая потребительская агитация. Советского человека призывают “пробовать и покупать” далеко не самые необходимые в повседневной жизни товары: мороженое, сигареты, сигары, соевые и томатные соусы. Продовольственное потребление стимулируют не только с помощью универсальных рекламных лозунгов, гарантирующих высокое качество товаров, но и, по сути, утверждая один из базовых постулатов общества потребления — представление о потреблении как о специфическом удовольствии: “Приятно пить кофе с ликером”; “Приятная острая и ароматная приправа — томатный кетчуп”. В рекламных слоганах акцентируются категории “вкуса” и “удовольствия”. Е.В. Сальникова в своем культурологическом исследовании замечает, что ориентация на удовольствие от потребления, артикулируемая в рекламе второй половины 1930-х годов, была новым нюансом в советском потребительском дискурсе, прежде почти целиком сфокусированном на полезности продукта. Символом и воплощением новых нормативных стратегий потребления стало первое издание книги “О вкусной и здоровой пище” (1939). В ней также отразилась тенденция презентации продовольственного изобилия. На форзацах и цветных вклейках изображены парадно накрытые столы и шикарные трапезы, визуализирующие идею не просто сытости, а праздничного изобилия и достатка. Идея достатка добродушно пародируется на страницах “Крокодила”, что само по себе свидетельствует о ее распространенности и, пусть еще и амбивалентной, но все же приемлемости с точки зрения власти. Более того, она, пусть и не без иронии, связывается с идеей “культурности”. В фельетоне “Мемуары на крыше” “толстая рыжая кошка” рассказывает о своих родственниках, жизнь которых проходила на фоне перипетий начала XX века. Бабушка “была кошкой высокой души и голубой крови”, она “лакала сливки, не сходя с дивана, … поворачивалась кверху животом и спала, пока ее не будила хозяйская горничная”. Мама “оказалась на положении беспризорной кошки в разоренной эпохой семье”. Хозяин рассказчицы “прораб Гутеев”, строил, думая “о целом городе, … о всей стране”, в результате рыжая кошка “толстеть начала … от этого сала и молока ужасно теряешь фигуру … стала жирной как покойная бабушка”. А на предложение пестрого котенка поймать серую мышку на чердаке героиня брезгливо отвечает: “– Фуй, … — Какие у вас еще низкие потребности, товарищ... Попробуйте быть культурным”.
В середине 1930-х годов актуализируется и проблематика более широкого материального потребления, не ограничивающегося сферой еды. По утверждению В. Букли, в это время в нормативном дискурсе обозначилась своеобразная реабилитация уюта, прочно утверждающегося среди ценностей советского среднего класса: “радости домашнего очага вновь ожили и стали отголоском дореволюционного буржуазного быта”. К аналогичному выводу приходит С. Бойм, отмечая в качестве культуральной характеристики 1930-х годов реабилитацию материальных объектов, в результате которой городское мещанство, к этому времени уже ликвидированное как класс, воссоздавалось во “вторичной” мещанской культуре сталинского периода. Положительные коннотации, сопровождающие практики материального потребления, находят свое отражение на страницах того же “Крокодила”. Последний номер за 1935 год (№№ 35/36) был посвящен сказкам. Сказочные персонажи “обживали” советские реалии и “примеряли” новые потребительские стереотипы. “Крокодильский” вариант сказки “Репка” завершается строками: “Вытянули репку. Трудодни заработали, и получилась у них ужасная масса денег и всякого добра”. А в сказке “О рыбаке и корыте” фиксируются идеалы материального достатка 1930-х годов: “Старуха вся в крепдешине, пред ней патефон заграничный, Пианино чехлом покрыто... Только нет простого корыта...”. Ш. Фицпатрик, рассуждая о повседневности “сталинского” периода, говорит о “потребительской вакханалии”, отличающей прессу 1930-х гг. Появляются статьи о выставках тканей, о магазинах, “заваленных” потребительскими товарами. Вещи-товары активно выставляли себя “напоказ”, призывая к приобретению, и тем самым стимулировали потребительские стремления: “Еда, напитки, потребительские товары прославлялись с жаром, которому могла бы позавидовать Мэдисон-авеню”. В одном из журналов описывается предстоящее открытие нового магазина: “На днях состоится торжественное открытие магазина. В день открытия будет играть джаз, покупателям будет предложено угощение и подарки дамам. Бой конфетти, серпантин. Танцы перед прилавками”. Важной составляющей матрицы “культурности” являлось соответствие внешнего образа моде. Быть хорошо одетым — императивный тренд дискурса второй половины 1930-х годов. В описании первого стахановского бала (1935 г.) читаем: “Хорошо одетые люди ритмично кружились по залу, украшенному цветами, зеленью и портретами вождей”. Как отмечает Н.Б. Лебина, тенденция следования моде подкреплялась активным изданием модных журналов. В качестве приложения к журналу “Красная панорама” начало выходить издание “Искусство одеваться”, в “Комсомольской правде” появилась постоянная рубрика под названием “Мы хотим хорошо одеваться!”. Обозначенный “модный” тренд, был институционализирован открытием первого советского Дома моделей в Москве, а затем и в ряде других крупных городов СССР. Отмеченная многими отечественными и зарубежными авторами тенденция к легитимации “мещанства” достаточно ярко проявилась и в эволюции самих модных образов. На смену популяризируемым в 1920-е годы комбинезонам и нарядам, более напоминающим спецодежду, в моду вновь возвращается классический подчеркнуто женственный стиль, а мужские образы ориентированы на респектабельность. Образ элегантной женщины определялся в журнальном дискурсе следующим описанием: “синий костюм от частного портного, голубой песец, модная шляпка на золотистой голове. Лакированные туфельки подчеркивали красоту маленькой ножки”. Тот факт, что описание это дано в сатирическом журнале, только подчеркивает укорененность подобного образа в сознании достаточно широких слоев. По замечанию Т. Ю. Дашковой, “курс на женственность” взятый в середине 1930-х годов, проявился в существенных изменениях типа женской телесности и в приемах его журнальной репрезентации. Среди изображаемых женщин резко возросло число привлекательных и интеллигентных лиц. У женщин на фотографиях начала появляться косметика (обычно это ярко подкрашенные губы, подведенные тонкие брови), прически, украшения. Е.В. Сальникова, анализируя образы советских модных изданий, замечает, что в 1930-е годы их лейтмотивом становится «эстетическое равнение на “буржуазность” в сфере мод и быта». Фоновые интерьеры, модные аксессуары (веера, шляпки с вуалью, перчатки, сумочки, зонтики), прически (аккуратно уложенные локоны) и сами транслируемые модой образы (платья с узкими лифами, узкими рукавами, приталенные жакеты или длинные платья в пол) — все это не имело никакого отношения к фактически любым видам трудовой деятельности, культивируя телесность, ориентируя на отдых и комфорт. Данную тенденцию можно проиллюстрировать примерами изображений в журнале “Модели сезона”. В. В. Волков и Е. В. Сальникова, характеризуя жанры и визуальные образы советских модных изданий, обоснованно определяют их как “чуждые пролетарской культуре” и даже “антисоветские” по своей сути.
В целом в определении общих тенденций и форм презентации потребительских эталонов второй половины 1930-х годов позиции исследователей не слишком различаются между собой. Однако анализ историографических источников позволяет выявить и сферы, где взгляды разных авторов существенно расходятся. Так, вызывает разногласия вопрос о превалирующем направлении тенденций нормативного дискурса в рамках концепции “культурности”: на формирование каких черт общественного сознания — индивидуалистических или коллективистских — была она направлена? Но, прежде чем обратиться к содержательной стороне разногласий, необходимой уточнить теоретическое содержание дефиниций означенной пары “коллективизм” — “индивидуализм”. С. Люкс выделил четыре центральные идеи, выражаемые и сочетающиеся в термине “индивидуализм”: уважение к личности, идея независимости или самостоятельности, идея частной или приватной сферы и идея развития собственного “я”. М. Фуко, рассматривая проблематику индивидуализма, выделяет не четыре, а три его составные части: индивидуалистический подход к жизни, положительная оценка частной жизни, развитие и совершенствование тех способов, с помощью которых отдельный человек делает себя объектом познания или воздействия, изменяя, исправляя себя”. В русле интересующей нас проблематики в качестве атрибутивной характеристики индивидуализации потребления, “экономического” измерения индивидуализма, могут быть приняты категория частной жизни, предложенная М. Фуко, и идея С. Люкса о приватной, частной сфере. Уточняя, можно обозначить ее как категорию частного пространства, или определенной дистанции личности от коллектива, реализуемой в различных формах и практиках. Например, таких как автономность проживания; наличие возможности индивидуального приготовления и приема пищи; наличие индивидуального вещевого, предметного пространства; возможность выбора средств и методов презентации своего внешнего образа; актуализация проблематики личностной рефлексии, субъективных переживаний, впечатлений, оценочных суждений граждан по поводу выбора, приобретения, потребления товаров и услуг. Идея “частного пространства”, или “дистанции” между личностью и коллективом проявляется во всех вышеперечисленных примерах, которые, фиксируясь в системе координат нормативного дискурса (легитимируясь и определяясь через положительные коннотации), могут быть приняты в качестве нормативных критериев “индивидуализма” в практиках потребления. В свою очередь, отсутствие означенной “дистанции” в инспирированных и одобряемых режимом потребительских практиках может служить атрибутивной характеристикой “коллективизма”. Руководствуясь выделенными критериями, обратимся к работам исследователей, прямо или косвенно затрагивающих данную проблематику. В. Данхэм отмечает, что концепция “культурности” была направлена на создание и структурирование (в соответствии с нормативными стандартами) частного, индивидуального пространства советского человека, транслируя “фетишизированное представление о том, как быть индивидуально цивилизованным”. Тенденцию актуализации частной, приватной жизни отмечает Е.В. Сальникова, приводя в качестве аргумента фактически абсолютное вытеснение изображениями элегантных женщин и респектабельных мужчин, приватно проводящих досуг, всех иных сюжетных композиций в модных изданиях 1930-х годов. В.З. Роговин, А. Жид, Г. П. Федотов также отмечают произошедшее в середине 1930-х годов “обращение” власти к актуализации индивидуальных, а не коллективных форм жизнедеятельности. В пользу “индивидуалистической” тенденции свидетельствуют и некоторые сюжеты, фиксирующиеся в журнальном дискурсе 1930-х гг. Так, сюжет на последней странице одного из номеров “Крокодила” (1935, №№ 30/31) отражает предполагаемые практики приема пищи в семьях единоличника и колхозника, слегка обыгрывая сконструированный парадокс: “Обедают. У единоличника — коллективно... У колхозника — врозь”. На первой иллюстрации, сопровождающей данный текст, изображена семья единоличника, все члены которой в плохо освещенном помещении хлебают кашу деревянными ложками из одной глиняной миски. Вторая иллюстрация, отражающая предполагаемую повседневность колхозной семьи, наполнена светом. За сервированным столом (ножи, вилки, специи, посередине стола на салфетке стоит супница на тонкой ножке) сидит семья колхозника, все члены которой, включая маленького ребенка, едят металлическими ложками каждый из своей фарфоровой тарелки. Наличие ножей, вилок, а также вторых плоских тарелок под суповыми позволяет предположить, что обед семьи не заканчивается супом. В данном сюжете “индивидуализированные” практики приема пищи положительно маркированы, подчеркивая материальный достаток колхозной семьи.
С другой стороны, ряд исследователей, в частности, М.В. Капкан и С.А. Кириленко, склоняются к мнению, что в дискурсе и фактических мероприятиях властей превалировали идеи коллективизма. Обращаясь к изучению гастрономической культуры 1930-х годов, авторы отмечают актуализацию именно коллективных практик, проявившуюся в фактической “реинтеграции частного пространства в пространство публичное” и “наступлении на индивидуальное домоводство”. И.В. Сохань также отмечает актуализацию коллективистских практик в нормативном дискурсе и фактических мероприятиях властей, в результате которой идеи коллективной деятельности как социальной нормы стали усиленно внедряться в различные области жизнедеятельности: потребление пищи, коммунальную, бытовую и досуговую сферы. Характерно, что именно по линии “коллективизм — индивидуализм” проходит граница положительных — отрицательных коннотаций в оценках советской социальной политики 1930-х годов у различных авторов. Современные исследователи определяют “коллективизм” через негативные характеристики, а “индивидуализацию” потребления — через положительные коннотации, характеризуя последнюю как поворот правительственного курса к “нормальной” жизни, в которой наконец-то появилось место для воплощения “потребительских желаний”. С другой стороны, авторы работ, изданных за рубежом в 1930-е–1940-е годы, основываются на прямо противоположной оценочной шкале: потребительский индивидуализм стигматизируется как “мещанство” и “опошление коммунистической идеи”. Полярность авторских позиций относительно преобладания “индивидуалистических” и “коллективистских” практик потребления в русле идеологемы “культурности” наводит на мысль, что данная концепция представляла собой достаточно сложную многоуровневую систему. В рамках данной идеологемы транслировались принципиально различные посылы, адресованные различным группам советского социума и призванные актуализировать не совпадающие психологические стереотипы и поведенческие стратегии. Базовый уровень концепции “культурности” был представлен гигиеническими императивами и поведенческими стандартами, направленными, прежде всего, на социализацию и “окультуривание” потока “новых горожан”, идущих из деревень в города. В практиках повседневности данной категории превалировал коллективизм (реалии коммуналок и общественных столовых), и идеологические посылы были направлены на утверждение и стандартизацию этих практик. Второй уровень концепции отражал эталонные формы советского образа жизни и был представлен пропагандой материального изобилия, комфорта и неограниченного потребления. Яркие визуальные образы рекламных плакатов и модных журналов обозначали реально существующие формы и практики потребления, доступные новой элите Советской страны. Вхождение в эту социальную группу было индивидуальным. Оно реализовывалось путем личных подвигов и заслуг (трудовых, творческих и пр.) “во славу режима”. Прошедшие лифт вертикальной мобильности индивиды также формировали “коллективы”: “стахановцы”, “номенклатура”, “советские писатели” и пр. Но индивидуализация повседневных практик в таких коллективах была несравненно выше. Если рассматривать проблему в таком ракурсе, противоречие между курсом на “индивидуализм” и “коллективизм” в социальной политике властей снимается. Векторность проводимого властью социального курса можно обозначить формулой: коллектив — индивидуальный подъем по социальной лестнице — КОЛЛЕКТИВ (с большим частным пространством и высоким уровнем потребления). Косвенно на такую направленность социальной политики указывает А. Жид, посетивший СССР в 1936 году. Он отмечает оживление в кругах советского социума стремления к личной собственности, которое “заглушает чувство коллективизма с его товариществом и взаимопомощью. … И мы видим, как снова общество начинает расслаиваться, снова образуются социальные группы, если уже не целые классы, образуется новая разновидность аристократии... всегда правильно думающих конформистов”. Включенность в коллективы советской элиты предполагала получение привилегий, отличающих их обладателей от остальных, не привилегированных масс, для которых рекламные плакаты оставались лишь иллюзией и несбыточной мечтой. О важности привилегий, игравших не последнюю роль в стимулировании вертикальной социальной мобильности, выразительно напишет в своих воспоминаниях Н.Я. Мандельштам: “Вкусивший райского питья не захочет в преисподнюю. Да и кому туда хочется?”. Результатом реализации социальной политики второй половины 1930-х годов стало усиление имущественной дифференциации советского социума. О масштабах социального расслоения в СССР “сталинского” периода Г.П. Федотов напишет: “Весёлая и зажиточная жизнь — это для новых господ. Их языческий вкус находит лишнее удовлетворение своей гордости в социальном контрасте. Нигде в буржуазном мире пафос расстояния не достиг такой наглости, как в России. ... На верхах жизни продолжается реставрация дореволюционного быта. Новое общество хочет, как можно больше походить на старую дворянскую и интеллигентскую Россию”.
Таким образом, анализ исторических и историографических источников позволяет утверждать, что важным компонентом реализуемой в 1930-е годы социальной стратегии была концепция “культурности”, представлявшая собой континуум информационных и визуальных посылов, регламентирующих границы и способы реализации потребительских стремлений населения. Данная нормативная концепция была универсальным инструментом “сталинской” социальной политики, с одной стороны, обеспечивавшим социализацию выходцев из деревни и формирующим их поведение в новой среде, а с другой, — выполнявшим функцию своеобразного маяка, освещающего возможности новой элиты и обозначающего “правильный” вектор социальной мобильности. Визуализация высоких потребительских стандартов облегчала достижение целей режима по дифференциации общества и укреплению собственной власти за счет расширения слоя, составлявшего его социальную опору.
Клинова Марина Александровна — кандидат исторических наук, доцент кафедры общей и экономической истории Уральского государственного экономического университета, г. Екатеринбург
Источник: журнал «Человек» № 4 2017