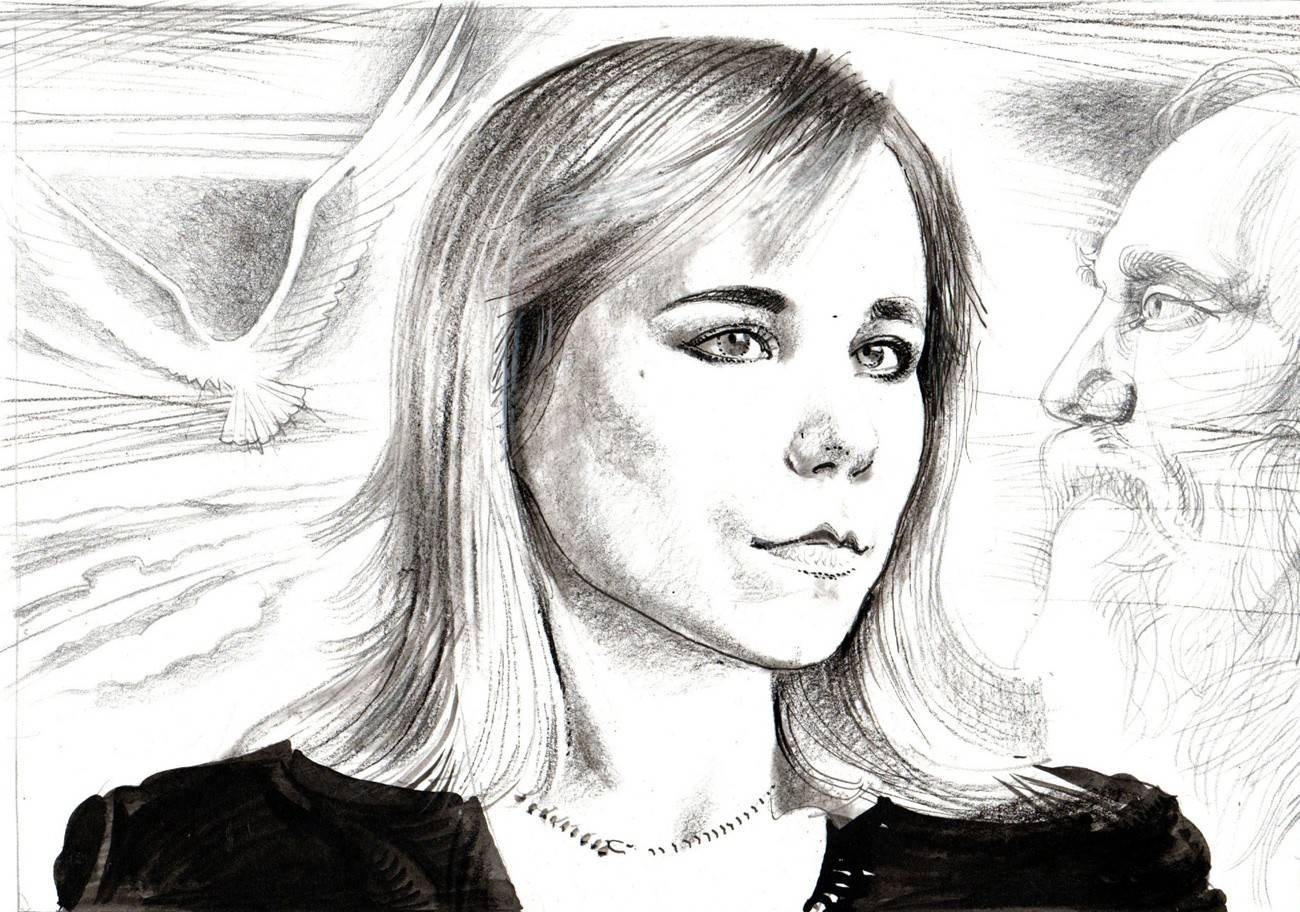Часто бывает, что писатель, сочиняя то или иное произведение, даже не предполагает тех удивительных смыслов, которыми оно в дальнейшем обрастает. К таковым смело можно отнести драматическую поэму Генрика Ибсена «Пер Гюнт», которая была написана летом 1866 года в Италии, где в это время жил он с семьей на писательскую стипендию, предоставленную ему Норвежским парламентом. В ней Ибсену удалось создать впечатляющий образ стремительно усредняющегося общеевропейца, представителя морально мельчающей Европы, типичного «человека без свойств». Похоже, Ибсен не рассчитывал на такой блестящий результат, ибо Гюнт виделся ему типичным норвежцем. Более того, сочиненная драма казалась ему сугубо норвежским произведением, которое в полноте понять могут лишь норвежцы: «Из моих произведений я считаю, что «Пер Гюнт» всего менее может быть понят за приделами скандинавских стран», - писал он в письме немецкому переводчику.
Ещё более суженным этот образ представлялся ему в начале работы: «…Пер Гюнт – реальное лицо, жившее в Гудбранисдалене, по видимому, в конце прошлого (восемнадцатого) или в начале этого века. Имя его народ в тех местах хорошо помнит, но о его подвигах известно немного…». То есть, вначале Пер казался Ибсену сказочным героем, совершающим подвиги. Но, по ходу написания, этот образ обогащался новыми чертами, например, неумеренным хвастовством, самонадеянностью, беспринципностью. И в конечном счете от фольклорного героя, расправляющегося с троллями и побеждающим Кривую, не осталось почти ничего: Пер Гюнт предстал перед читателями и зрителями типичным прагматичным деятелем девятнадцатого века, отразившим в себе все свойственные этому веку заблуждения, на первых порах казавшимися существенными достижениями, в особенности области материального преуспевания.
В Пере с самого начала подчеркнута некая продуваемая пустота: собственно своего у него не то, чтобы нет: это свое создается на чужой основе, даже враки, которыми тешит он себя и других. Есть, правда, в бездельнике Пере и большая доля обаяния – недаром он с такой легкостью, в ущерб более степенным соперникам, покоряет сердца окрестных красоток: ладно бы, пустых, вроде невесты, которую Пер со свойственной ему импульсивностью увозит от жениха в горы прямо со свадьбы, таща под мышкой словно поросенка, по словам одного из свидетелей; но и встреченная на этой свадьбе богомольная Сольвейг с неизменным молитвенником в руке – она ведь тоже влюбляется в него и любит затем на протяжении всего сюжета. Может быть – за потенциальные возможности, так и не реализованные, которые, как окажется в финале, прозревает лишь она одна.
Пер же, который с первой встречи видит в Сольвейг недостижимый образ идеала и чувствует себя недостойной ее, пускается во все тяжкие и после того как прогоняет от себя украденную со свадьбы и соблазненную им Ингрид, сходится с дочерью Доврского деда, короля троллей.
Спустившись вслед за нею в пещеру, Гюнт одновременно спускается в глубины своего собственного греховного сознания и одновременно подвергается экзамену на беспринципность. Готовность его к компромиссам в этом деле поначалу, кажется, не знает пределов. Комично или скорей даже страшно то, что эту и подобную этой измены себе как человека Гюнт оправдывает посредством ссылки на Святое Писание «Да, по Писанию нужно превозмогать нам природу свою»: привычный для Ибсена пример вывернутого наизнанку сакрального слова, жеста или действия, в данном случае Евхаристии, так как далее посредством кала и мочи животных, отведанных им, Пер приобщается к демоническому, в самом прямом смысле впускает его вовнутрь. Но и его наружный вид тоже становится соответственным внутреннему, ведь Пер в придачу соглашается привязать себе сзади парадный хвост своего будущего тестя (как это всё похоже на современное западное общество, не правда ли?). И, наконец, важнейшее, обстоятельство: ему предлагают стать заправским троллем.
«Ну, вы ещё захотите меня вероотступником сделать?!» – спрашивает у троллей взбешенный Гюнт. Ответ:
Нет, твоей веры не тронем, мой сын, -
Вера свободна от пошлин;
Нам оболочка одна лишь важна…
С виду будь троллем заправским,
Верь же, как хочешь, и верой зови
То, что здесь страхом зовется.
Сказанное можно понять и так: поскольку настоящей веры у тебя нет и так, для нас нет разницы, будешь считать себя верующим или же неверующим. Эта тема находит убедительное подтверждение ближе к концу, когда Доврский дед вынимает из кармана пачку газет, где с восторгом пишут о Пере как об одном из лучших граждан страны и предлагает ему ознакомиться с ними:
Увидишь
На черном красным похвалу себе
В «Блоксбегской почте», в «Хеклефьельском эхо».
Тебя хвалить они не уставали
С тех пор, как ты за океан уехал.
Не хочешь ли прочесть ты, например,
Статью за подписью «Копыто», или
Другую: «Наш троллизм национальный»?
Проводиться в ней мысль, что не в хвосте
И не в рогах, а в духе тут всё дело;
В душе будь троллем, с виду же – чем хочешь!
Ещё одно ценное наблюдение, годящееся для определения внутреннего состояния наших западных современников, весьма довольных самими собой, о чем у Ибсена ниже:
А в заключенье сказано, что в слове
«Доволен» - центр всей тяжести: оно
Преображает человека в тролля,
Причем тебя в пример приводит автор.
Пер Гюнт
Я – тролль?
Доврский дед
Ну да. Тут не о чем и спорить.
Пер Гюнт
Я, значит, мог бы с тем же результатом
Весь век свой в Рондах просидеть за печкой,
Себя избавить от трудов, забот?
«Пер Гюнт всю жизнь был троллем?» – в который раз спрашивает он себя. И заключает: «Вздор и враки!»
«Легче, однако, поладить с тобой, чем ожидал я вначале», - меланхолически отмечает предложенные ему Доврским дедом обстоятельства расчеловечивания Пер. Но, как оказывается далее – неполного, ибо последующие предлагаемые ему условия, предполагающие исправление его зрения с тем, чтобы и внешний мир он мог воспринимать в демонском духе, не выдерживает даже он (зато на это с радостью идут наши современники).
Тебе, - наседает на него король троллей, -
Надо серьезно лечиться,
Зять, от господства природы людской.
Левый твой глаз я чуть-чуть поскоблю, -
Вкось всё и вкривь будешь видеть,
Но уж зато всё красивым найдешь,
Правый же глаз твой я выну.
………………………………………..
Сам посуди, от каких неудобств
Этим тебя я избавлю.
Вспомни, глаза суть источники слез,
Горьких и едких, как щелок.
Это никому ничего не напоминает? Правда, Пера в данном случае останавливает страх вечной слепоты. Он порывается покинуть подземное царство, но Доврский дед его останавливает. Отметим здесь деталь, дающую представление о ловушке, таящейся в понятии сатанинской свободы, выраженной во фразе Доврского деда: «открыт вход к нам для всех, но не выход», - в отличие от свободы Божественной, которая ничем не ограничивает ее носителя, равно как ни к чему его не принуждает, зато может предложить выход из любого тупика. Без нее, пробуя найти выход из подземного царства, Гюнт попадает в кромешный мрак. В этом мраке он натыкается на некое странное, вездесущее и неосязаемое существо, носящее наименование Сама или Великая Кривая, которое преследует его во всех местах непроницаемого пространства. После долгого сражения с ней, вернее – долгих и тщетных попыток ее поразить, Гюнт понимает, что она – ни что иное, как замкнутая в пустоте его собственная самость, не имеющая ни формы, ни образа.
Здесь, в момент редкого отчаянья Пера, Ибсен впервые вводит линию, которая будет определять всё последующее спасение Пера – это линия молящейся за него Сольвейг. «Издали доносится колокольный звон и церковное пение», Кривая исчезает, а Пер просыпается на горном пастбище, рядом с Сольвейг; Пер ее просить не забывать его и молиться за него и дальше. Этим заканчивается второе действие. А в третьем изгнанный из родной деревни Пер оставляет пришедшую к нему и готовую разделить с ним участь изгнанника Сольвейг и пускается в странствования по свету. На протяжении этих странствий он стремительно меняет личины: преуспевающего торговца, космополита-нувориша, мусульманского пророка, претендует даже на звание царя мира (читаем – антихриста) - и все это причудливом образом сочетается с так и не покинувшей его до сих пор детской мечтательностью, подпорченной, однако, знакомством с учением троллей: «самим собой доволен будь».
Разбогатевший Гюнт, высадившийся с корабля в пустыню, предстает перед восхищенными им представителями различных европейских национальностей в образе убежденного космополита-нувориша – без роду, без племени:
По духу я
Вселенский гражданин. Своей фортуной
Америке обязан; образцовой
Своей библиотекой – юным школам
Германии; из Франции же вывез
Манеры, остроумие, жилеты;
Работать в Англии я научился
И там же к собственному интересу
Чутье повышенное приобрел.
У иудеев выучился ждать,
В Италии же к dolce far niente
Расположеньем легким заразился,
А дни свои продлил я шведской сталью.
В этой характеристике не хватает ещё двух определений - без чести и без принципов. Не удивительно что очень скоро, лишившись неправедно заработанного золота, в окружении донимающих его обезьян, одной из которых – очередной этап приспособленчества Гюнта ко всему и ко вся – он желал бы стать для того, чтобы остальные приняли его за своего так же, как приняли его в свое время тролли (о поддельном хвосте, некогда подаренном ему королем троллей, Пер вспоминает сейчас с неподдельным сожалением).
Ибо идиотический оптимизм, сопряженный с нерассуждающей энергией, направленной к ложной цели, житейская цепкость, самодовольство – всё это с излишком присутствует в характере Гюнта, несмотря на приближающийся пенсионный возраст. Нет только одного – видения самого себя. Посему, только что потерпев крах в одном начинании, он с тою же не рассуждающей энергией намечает другое – да какое: ни много ни мало, как осушение пустыни, постройки через нее сквозного канала и железной дороги, изменения климата, заселение возникших оазисов, в которых, несколько в противоречии с их возможностью их функционирования, предполагается застроить заводами, и, в довершение всего – заложение на берегу залива города (название, естественно – Перополь; страна, соответственно – Гюнтиана).
Ещё и раннее, меняя города, страны и лица (я имею ввиду изменения его собственного лица – как внешнего, так и внутреннего, - свойство, которое он сам трактует как поиск своего истинного я) Гюнт одновременно проходил ряд искушений, связаннмих - правда, не напрямую - с религиозными аспектами и свойственными, вообще-то, не только ему, но и всем представителям рода человеческого; более же всего, однако, характерных для личности протестантского типа с ее воззрениями, наклонностями и привычками: искушение медными трубами славы, богатством, самомнением и прочим в этом же роде. А также многим другим, что в изобилии предлагают другие религии, в каждой из которых он чувствует себя достаточно комфортно: реализации, например, его в качестве мусульманского пророка, которым он объявил себя после случайного обретения скакуна, груженного восточными богатствами, отведена добрая половина четвертого действия.
Надо сказать, Гюнт довольно основательно входит в эту роль – настолько, что, совершенно по-восточному, присваивает себе функции Бога, уже здесь, на земле, решающему, кому и на какой должности быть в раю; и даже – вдыхающего душу в, так сказать, сосуд, который прежняя душа бесследно покинула. Однако, когда он от этой роли пытается отрешиться, то в очередной раз оказывается в ещё более привычном для него состоянии неопределенности, и снова - по причине похоти. Путь, который престарелый Гюнт проделывает через пустыню на пару с очередной красоткой, мниться ему бесконечной дорогой к раю, где ему суждено получить новую душу, но дорога эта, по причине алчности спутнице, быстро заканчивается – выманив у него все драгоценности, одежду и похитив коня, она оставляет его в пустыне в том самом состоянии статус кво, в котором он пребывал в начале действия. Это состояние, в свою очередь, инициирует новый переход из пустого в порожнее, но порожнее, подлежащее наполнению совершенно безумным содержанием: ведь следующая сцена происходит уже на территории сумасшедшего дома, каковым, собственно, и является прошедшая свой путь до конца по кривой современная Европа. Главный врач - некий Бегриффенфельд, скорбящий по поводу кончины мирового разума, о выходе его из себя, что привело, по его мнению, к полному перевороту в мире, вследствие чего «все личности, что за безумных слыли / До этой ночи, с этих пор - нормальны, / Согласно с разумом в его новейшей, / Последней фазе». Носителем этого нового разума Бегриффенфельд объявляет Гюнта. Но, согласно такой логике, перешедшей свои пределы и обернувшейся безумием, точно таким же царем может быть провозглашен каждый из двухсот тридцати имеющихся в наличии пациентов, так как, по словам сумасшедшего доктора:
Каждый
Является самим собою здесь
И более ничем; с самим собою
Здесь каждый носится, в себя уходит,
Лишь собственного я броженьем полон
Здесь герметическою втулкой «Я»
Себя самих в себе же затыкают
Здесь для беды чужой нет слез; вниманья,
Чутья к чужим идеям не ищите;
Мы сами по себе и для себя
Во всем – до мозга самого костей!
В этом воплощен абсолют, можно сказать, эгоистической замкнутости, явные, даже кричащие примеры несовпадения мнений, видимостей и сущностей; и Гюнт, как оказывается, отнюдь не исключение. Но именно теперь он впервые приближается к их разграничению внутри себя, и даже больше – пониманию себя как искаженной и опустошенной, вернее, не могущей быть заполненной ввиду совершеннейшей пустоты, сущности. Отсюда и самоопределения: «я – исписанный каракулями царский пергамент»; «я лист бумаги чистой, на которой не напишут никогда ни строчки» и пр. Самое курьезное – это, конечно, то, что Перу в разговоре с Сатаной приходиться буквально вымаливать место в аду – так, словно бы туда отбирают по конкурсу. Ещё более курьёзно – что враг человека ему в этом отказывает. Учтем, что пьеса Ибсена, по его замыслу, сатирическая. Но всё-таки: насколько нужно утратить себя в человеческом смысле, чтобы даже ад тебя не принимал – тем более, такой ад, как у Ибсена. А ведь как удачно все начиналось: Гюнт последовательно мнил себя принцем, царем, и мало того, что царем – царем мира, едва ли не новым благодетелем человечества, а оказывается, таких же царей как он – вон их сколько.
В пятом, последнем действии происходит его возвращение на родину. Гюнт уже далеко не тот веселый и бесшабашный парень из первого действия: теперь он намерен мстить за сам факт существования чужого счастья и устроение души его в этот момент совершенно сатанинское. В этом состоянии он оказывается недалеко от лесной избушки, некогда им срубленной, где не перестает ждать его состарившаяся Сольвейг. Но не о ней вспоминает Гюнт, ползающий по земле и собирающий дикий лук (отдаленный аналог рожков, которыми вместе со свиньями питался блудный сын):
…цезарем начав,
Я Навуходоносором кончаю.
Да, довелось-таки пройти мне всю
Библейскую историю. Пришлось
На старости прильнуть к груди родимой…
Отметим, как возрастает со временем точность припоминания Пером фраз из Святого Писания, которые раннее либо переиначивались применительно к собственной выгоде, либо просто перевирались. А также осознание себя как несостоявшегося раба Божьего. Посему в настоящий ужас его повергает Сольвейг, поющую внутри избушки всегдашнюю свою песню об ожидании его, Пера: «Пер Гюнт при звуках песни медленно встает, безмолвный и бледный как смерть и говорит:
…О, если бы можно начать всё сначала…
Ведь здесь меня царство мое ожидало».
Начать сначала Гюнту кажется невозможным, поэтому он, сломя голову, обращается в бегство – без направления и без цели. Оно сопровождается мистериальным действом с участием преследующих его по пятам его же собственных невоплощенных мыслей, слов, песен, слез, дел и пр. Затем он встречается с выходцами из потустороннего мира: сатаной, стремящимся заполучить его душу, не заслужившую ни ада, ни рая, почему ее обладателю предназначена лишь участь в общей массе таких же, как он – путем переплавки их всех в одной ложке или котле, как, очевидно, для большей наглядной правдоподобности добавляется далее, и с неким Пуговичником, посланным ее переплавить,
По смыслу это одно из самых сложных мест пьесы, которое, учитывая его гротесковую метафоричность, может быть понято посредством вот какого вопроса: является ли человеком человек, утративший личностную сущность, а если нет, то что он после этой утраты из себя представляет? Лишь правильное ощущения себя как личности выделяет человека из среды себе подобных; если же он этого ощущения не приобретает, он становиться, в лучшем случае, ничем не выделяющимся человеком толпы, одним из многих, индивидуальная значимость его при этом становиться равна нулю. В этом случае нет разницы, пребывает ли он внутри этой толпы или существует вне нее – он ничего не приобретает и не теряет. Но есть и более худший вариант: человек, вместе с личностным, теряет и само человеческое. В этом случае по существу своему он становиться неотличим от зверя, рыбы, или даже, допустим, травы, а то и минерала. Последние, в частности, претерпевают ряд изменений, которое претерпевал или пробовал претерпеть на протяжении своей жизни Гюнт. Закономерен поэтому заключительный её этап – вливание как части в общую массу, так как он, по выражению Пуговичника, в качестве сырого материала ещё годится в дело.
Пуговицей вылит, - замечает Пуговичник собеседнику, -
Ты жилета мирового был,
Но вот ушко сломалось, отскочило,
И предстоит тебе быть сданным в лом,
Чтоб вместе с прочими быть перелитым.
Перу удается добиться временной отсрочки от переплавки: ему предоставляется найти свидетелей тому, что он хоть раз в жизни был самим собой. Но таковых не находится. Как не находится и тех, кто мог бы свидетельствовать о его каких-то из ряда вон выходящих грехах. Оправдания Пера выводят из терпения самого дьявола: «Мой совет: оставьте все затеи / И с ложкою плавильной примиритесь!» Только после этого в сознании Пера наступает, наконец, резкий перелом. «Я исключен – увы! – скорбно констатирует он, - из благородных собственников «я»! «Весь съеживается, точно от страха, - гласит сопутствующая этим словам ремарка, - и скрывается в тумане; с минуту длиться молчание, затем он вскрикивает:
Так неужели всюду пустота?..
Ни в бездне, ни на небе никого?»
Всё свидетельствует о том, что Гюнт всю жизнь был пустым местом. И тогда сжалившийся Пуговичник приводит его к избушке с ожидающей Сольвейг, которая здесь, в последнем действии, даже по внешним приметам видится более русской, чем норвежской женщиной (она и раньше воспринималась таковой - недаром этим образом всегда восхищались не западные, а именно русские читатели – и воспринимали ее как свою), и оставляет его там. Пер снова намеревается бежать, но передумывает: «На этот раз пойду я напролом, / Пойду прямым путем, как он не тесен!»
«Бросается к дверям избушки, которые в эту минуту отворяются, и на пороге показывается Сольвейг в праздничной одежде, с молитвенником, завернутым в платок, с посохом в руках. Она стоит прямая, стройная, с кротким выражением лица.
Пер Гюнт (распростершись на пороге)
О, если б грешника ты осудила,
Ему свой приговор произнеся!
Сольвейг
Вернулся! Он вернулся! Слава Богу!
(Ищет его ощупью)
Пер Гюнт
Ну, жалуйся и обвиняй меня,
Вины мои скорее перечисли!
Сольвейг
Ни в чем ты не виновен, мой бесценный!
(Ищет его ощупью и находит).
………………………………….
Пер Гюнт
Так говори же!
Где был «самим собою» я – таким,
Каким я создан был, - единым, цельным,
С печатью Божьей на челе своем?
Сольвейг
В надежде, вере и в любви моей!
……………………………………………………………..
Пер Гюнт (словно озаренный лучом света, вскрикивает).
О мать моя!
Жена моя! Чистейшая из женщин!
Так дай же мне приют, укрой меня!
(Крепко прижимается к ней и прячет лицо в ее коленях).
Так заканчивается земной путь Пера Гюнта. Дай Бог окончить таким же образом свой путь и Европе, которую он представляет. И конечно же роль Сольвейг в очередной раз должна будет взять на себя Россия, столько раз прощавшая ей все её подлости и коварства. Кроме нее ведь – на земле прощать больше некому. Да и в более узком смысле смешно и странно было бы представить в возвышенном образе Сольвейг женщину из какой либо современной европейской страны. Из теперешней Норвегии – менее всего. Русскую – всегда можно.