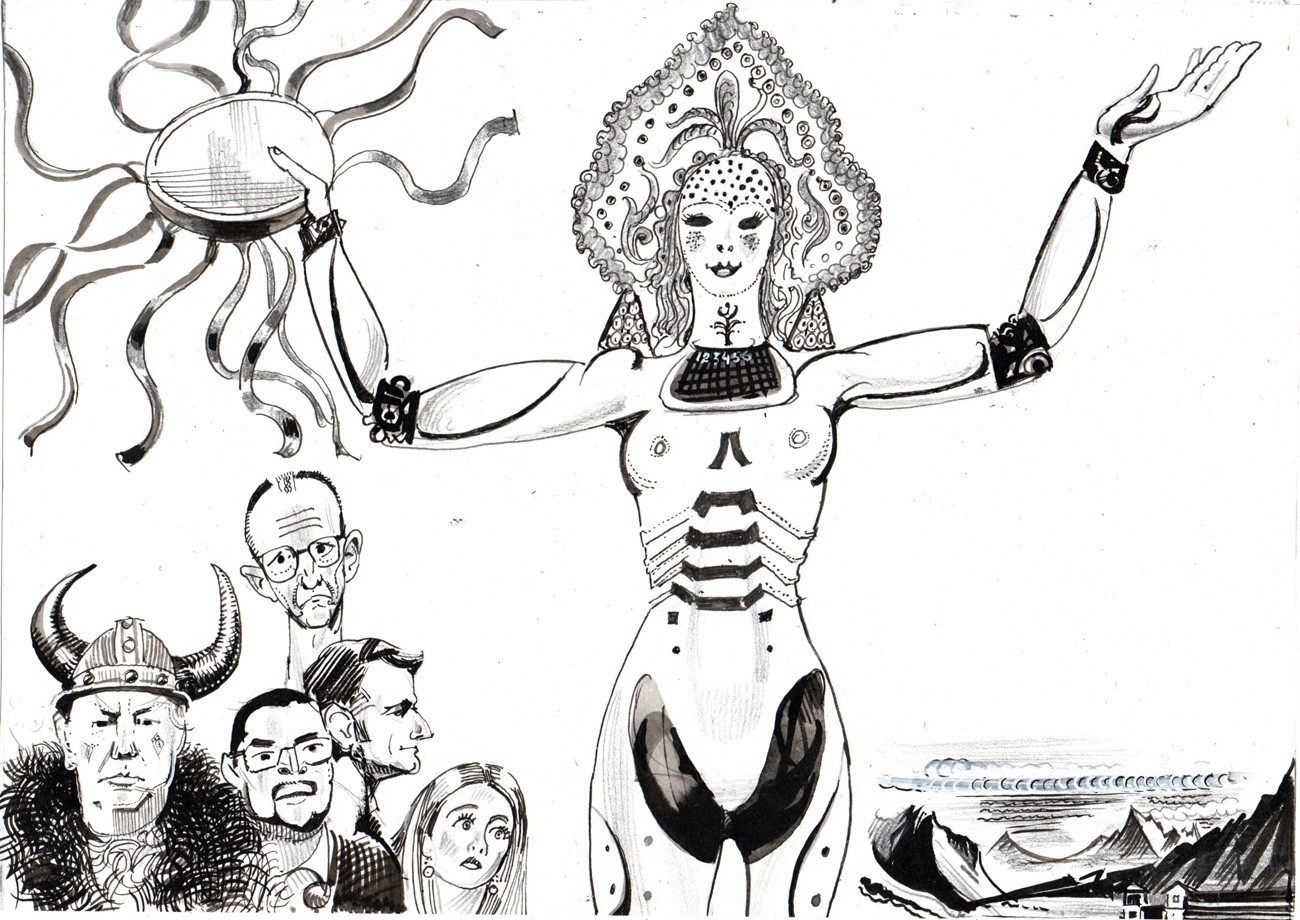Вначале я посвятил этот очерк отцу, который всю свою жизнь трудился на Целине, с первых дней начала ее Освоения. Потом подумал, что такой подход не вполне оправдан. Уверен, что и папа не согласился бы со мной… Конечно, ведь написанное касается всех односельчан, коренных и приехавших из других республик Союза. Тех, кто поднимал Целину, и тех, кто продолжил работу на ней; трактористов и комбайнеров, доярок и скотников; людей других профессий, чья трудовая биография навсегда связана с нашим целинным поселком, название которому «Трудовой». Символично, не правда ли? В советские времена умели давать «говорящие» названия.
Весной 2014 года исполнилось ровно шестьдесят лет началу того большого подвига. Вот ему – большому трудовому подвигу советских людей и посвящаются эти строки.
***
Так уж водится, чем дальше идут годы, тем больше желание оглянуться назад, чтобы окинуть взглядом прошедшее, оценивая его и взвешивая.
Судьбы моего поколения уже можно делить на «до» и «после»… Мы отшагали какое-то расстояние и заслужили право на осмысление некоторых истин. Не торопясь. Ведь по-настоящему успеваешь только тогда, когда не спешишь.
И приходят мысли о себе, о людях, о родине.
В свое время бытовало не совсем ясное словосочетание «малая родина». То есть, вот большая родина – Союз, а малая – это место рождения. Но я точно знаю, что территорию, на которой прошли твои первые осознанные годы никакой такой софистикой не затушуешь и хитрыми эпитетами не замажешь. Менее значительной она не сделается.
На всей огромной Земле у каждого есть своя Деревня, где знают, кем был твой прадед и дед, помнят и тебя и твоих родителей в младенческом возрасте; знают всю подноготную твоего рода.
Там на тебя впервые хлынула вся информация о мироздании, все знания человечества; там ты впервые увидел звезды и ощутил бесконечность небесных сфер.
Там дом, в котором ты родился, школа, в которую ходил; озеро, в котором ловил окуньков.
Там, еще до сих пор, на самой опушке Малого Карагача корячится старое дерево, под которым ты впервые ощутил сладость девичьих губ; остановка автобуса, на котором ты выехал в большую жизнь.
Там она начиналась.
И заканчивалась тоже.
Потому что там и смерть.
Там – кладбище, по которому идешь, читая на крестах и памятниках, с детства знакомые фамилии. А с недавних пор и свою собственную.
Это – родина. Это моя родина. И кто смеет утверждать, что она – малая?
Моя родина – Целина.
Хотя место, где три поколения назад поселились мои предки, целиной называется всего чуть более пятидесяти лет, а прежде было полосой лесостепи в Акмолинской области.
И деревня стала называться совхоз «Трудовой» только в 1954 году, а до этого звалась Дворянкой, потом колхозом имени Сталина, на берегу озера Жарлыколь, в пятнадцати километрах от железнодорожной станции Ак-Куль.
Кстати, наше озеро – особая статья в жизни поселка. Это чуть позже, в начале восьмидесятых, копаясь в географии родного края, я нашел его название «Жарлыколь», а для нас оно всегда было просто Озеро. В нем купались, поили скот, брали воду для питья.
Оно было пресным, а еще – большим и страшным. Мы – дети – его боялись, потому что в нашем озере каждый год кто-нибудь тонул.
Особым шиком для молодых было переплыть Озеро. Отчаянные головы решались на это. Их знали по именам, они были примерами для подражания среди нас, пацанов.
Ясно, что когда-то поселение образовалось здесь именно из-за Озера. А еще, совсем недалеко, были леса: с одной стороны – Малый и Большой Карагач, с другой – Байман.
А в Большом Карагаче, в сторону райцентра Алексеевка, находилась Ферма, где и родился мой отец.
Когда образовался совхоз, люди в него потянулись, начиналось освоение целины. Совхоз «Трудовой» был обыкновенным, каких в нашем Алексеевском районе насчитывалось около двадцати; но по названиям сразу определялось, что на распашку земель народу понаехало отовсюду: Минский, Урюпинка, Одесский, Новорыбинка и т.д.
Целинниками мы себя не чувствовали, мы ими были. С детства видели себя либо за штурвалом комбайна, либо за фрикционами гусеничного трактора. И не только в мыслях.
Я, например, неплохо управлял «Казахстанцем» уже с двенадцати лет, благодаря своим двоюродным братьям Анатолию Ивановичу Чубарову и Николаю Яковлевичу Корниенко.
То с одним, то с другим ездил пахать, а порой подменял их полностью на смену, если случалась свадьба или еще какой-нибудь праздник. В школе уже было не интересно.
Настоящая жизнь, ее кипение, ощущалось только здесь – на борозде, в мире запахов свежей земли и солярки.
Многие совхозные ребятишки тоже с детства приобщались к нелегкому труду животновода (механизатора). Умение хорошо управлять трактором у нас не считалось чем-то необычным.
Совхоз жил работой: посевная – уборка. Хлебу было посвящено все. Тех, кто трудился на других участках, к примеру, строителей, электриков считали чуть ли не лентяями.
Во время уборки, на улицах села никого из мужчин не встретишь, все в поле.
Мастерская по ремонту техники работала тоже почти круглосуточно, при минимуме рабочих рук, самых опытных и умелых рук.
Мы гордились своими отцами! Работали они, что называется, не за страх, а за совесть.
Мы любовались ими и тогда, когда уборка заканчивалась и каждая бригада, прямо в поле, отмечала ее окончание. Бригадиры уже заботились не о запасных частях, а о еде и питье.
Гуляли тоже от души, как и работали.
А через несколько дней, подводя итоги, в совхозном клубе проводили торжественное собрание, зачитывали списки намолотивших больше других, вручали премии и – опять гуляли. Умели тогда гулять красиво, широко, без разборок и драк.
Ценили труд хлебороба в то время, награждали медалями, орденами и списки награжденных зачитывали на всю огромную страну.
Я тогда учился в Москве, было это в 1978 году. Вечером, зачем-то включил радио (раньше никогда не включал) и почти сразу же услышал свою фамилию и имя-отчество отца «Орденом Трудовой Славы» третьей степени.
Какое меня охватило чувство гордости за папу!
До боли жаль, что он никогда не прочитает этих строк. Раньше надо было писать, да все времени не хватало. И потом, в иные моменты, казалось, что все мы катимся в тартарары, и прежние человеческие ценности уже никогда не вернутся.
Слава Богу, мы ошибались!
И только теперь я отдаю дань светлой памяти отца. Всю свою жизнь, от молодости до пенсии, он посвятил пашне, хлебу; вся она, по дням и неделям, расплескана по полям, которые тогда и называли по количеству гектаров: «триста десять», «двести тридцать».
Прямой, честный, трудолюбивый, таким отца знают в нашей деревне. Таким его помнят и любят до сих пор. И эти эпитеты, я думаю, применимы к большинству людей его поколения; поколения, которое, к сожалению, уже ушло; поколения, которое было лучше, тверже, благородней нас. Не за медалями, деньгами, титулами ринулись они на целину.
Они, на себе испытавшие голодное военное и послевоенное время, пошли выращивать хлеб, чтобы накормить всех, чтобы больше не было голодных, черт возьми!
Именно они сделали Казахстан мировой хлебной державой. Честь им и Память!
Кого только не было в нашем совхозе: русские, казахи, украинцы, немцы.
На каждую уборку приезжали гуцулы из Западной Украины – комбайнеры, помогать нашим. Рота солдат на «военных» машинах возила зерно на ток.
Армяне катали асфальт.
Белорусы строили коровники.
Целинный поселок – это весь прежний Союз в миниатюре. Информацию о жизни в других республиках мы получали из первых уст.
Поздней осенью, после вспашки зяби, вчерашние герои жатвы распределялись на зимние работы: в мастерские, машинный двор, котельную, скотобазы. И никто не жаловался, не обижался, не аппелировал прежними заслугами. Шли туда, куда послали.
Животноводческие базы располагались за пределами села. Кормить, поить скот, убирать навоз, надо было три раза в день: рано утром, в обед и вечером. А при наших свирепых буранах – это не легко и не просто. Тем более что замерзали в буран очень часто, почти каждую зиму. Ведь непогода не отменяет рабочего дня у скотника, актированных дней в селе не бывало. И смерть по дороге на работу или с работы, посреди разъяренной стихии, иногда в нескольких метрах от жилья, виделась нам в образе таинственном и загадочном.
Умерших хоронили всем селом: проводить усопших в последний путь считали своим долгом все, даже дремучие старики и ветхие старушки. Кто не мог идти до кладбища, тот просто выходил на дорогу, к процессии.
И руководство совхоза и простые люди помогали родственникам умерших: морально, материально.
Сейчас я твердо уверен, это и было нашим целинным братством.
«Было», потому что уже не будет, времена не повторяются. Немцы, почти все, уехали в Германию. Много наших коренных целинников перебралось в город. Много незнакомых осело в Трудовом.
И горе здесь уже не то, и счастье – тоже.
Сейчас в нашем селе новое кладбище, у самой опушки Малого Карагача, возле старого машинного двора. Вокруг, куда ни глянь, поля – «сто двадцать», «триста десять»…
И лежит на этом кладбище мой отец, а вокруг – могилы его друзей, товарищей, с которыми он трудился на этих самых полях. Все – прекрасные люди. И земля отцу досталась своя, родня, и места эти исхожены и изъезжены им вдоль и поперек.
И ходил я по этому кладбищу, читая на памятниках с детства знакомые фамилии: Зотин, Бачанов, Мукомел, Леонов, Гопфауф…
Ты – дома, папа, ты навсегда дома.
Ты на своей родной целине; ты, папа, был ее частью, а теперь стал ее плотью.
Ты ее всегда одухотворял и любил, и она отвечала тебе тем же.
И еще, ты был по-настоящему счастлив.
Отчего же так кружится голова и першит в горле?
Отчего все вокруг чужое?
Почему все осталось в прошлом?
Нет ответа. Есть только утверждение.
Теперь Все, исключительно все в прошлом. И слова, которые послушно ложатся на бумагу, тоже часть прошлого. И посвящены они прошлому; прокатилось оно курьерским поездом: и пыль в дали и дым в глазах; надо думать о прошлом, потому что оно – наше настоящее, наше будущее. И как бы ни складывалась жизнь сегодня, а все уносится, но не все забывается. И жизнь, и годы, и любовь – несутся, нет им остановки. Катится поезд к нашей последней станции, проходит положенный ему путь без остановки и не знает промедления на этом пути, который зовут жизнью. И дым вдали и пыль в глазах. Остановиться бы, вернуться бы, но нельзя, можно только обернуться назад и увидеть себя ребенком. И как бы ни был тяжек день сегодняшний, надо найти в себе силы смотреть в завтрашний, который, быть может, несет в себе печали еще горше, а может – избавление от них.
Значит, грустить не надо; значит, ничего не кончается; значит, смерти нет…