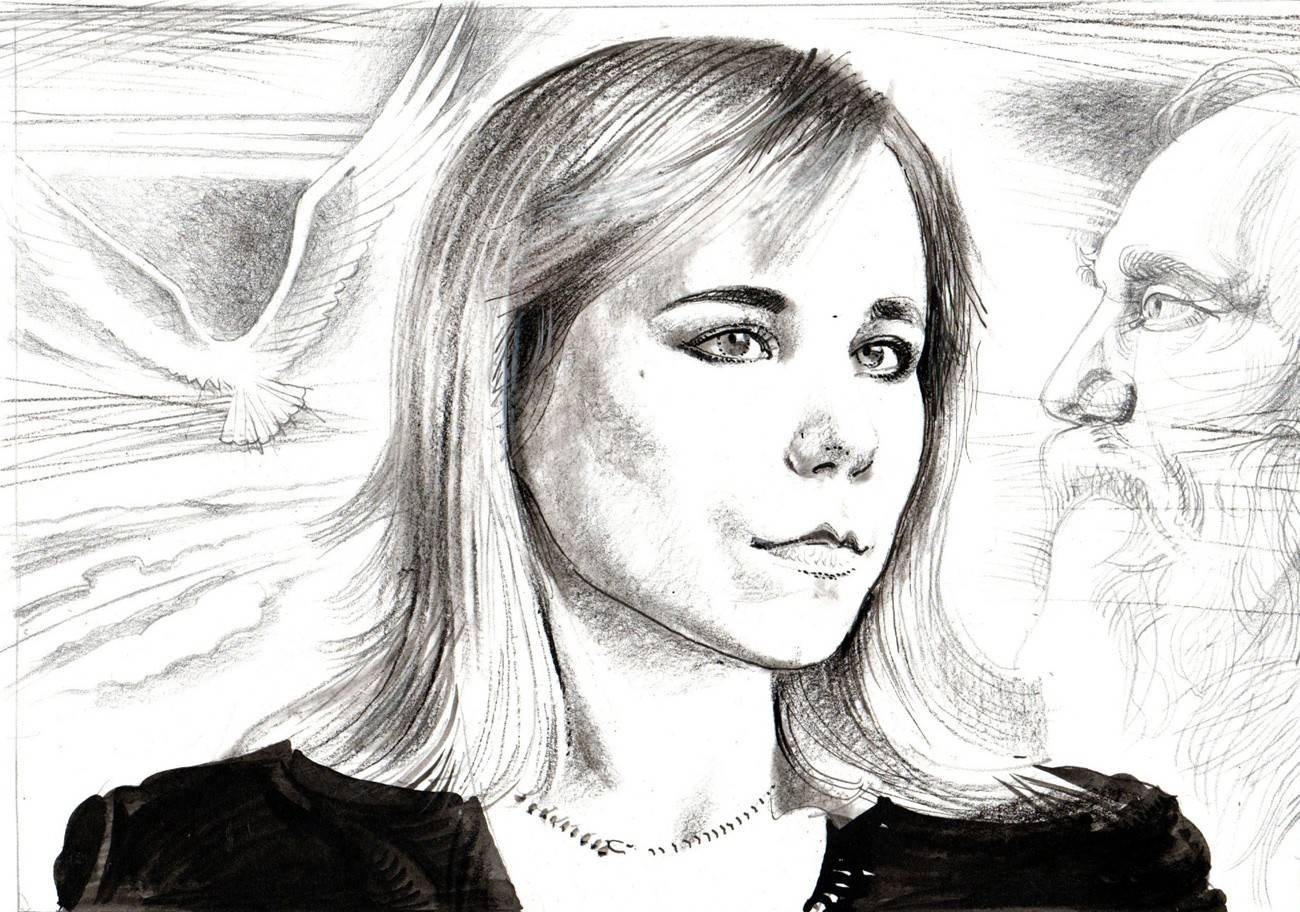У поэта Георгия Адамовича много общего с закадычным другом Георгием Ивановым – при том, что его творчество по сравнению с творчеством последнего выглядит менее значимым и несколько вторичным. И, как и Иванова, его никак не причислишь к оптимистам. Но вот просветы во тьме бессмысленного существования у Адамовича куда более внятны – не в последнюю очередь благодаря религиозному слагаемому, которое довольно явственно в его поэзии и которое выделяет его из ряда других поэтов так называемой "Парижской ноты" - литературной группы, основателем которой был он сам. Боюсь даже, без отмеченного свойства он вполне мог бы быть отнесен к поэтам второго, а то и третьего ряда (в разговоре со мной сразу несколько довольно значимых современных поэтов именно туда его и причисляли). Но лично для меня он, как поэт, раз уж речь зашла о иерархических рядах, находится где-то в промежутке между первым и вторым. А как литературный критик, чье наследие насчитывает до полудюжины увесистых томов – вообще вне всякой конкуренции.
В молодости Адамович принадлежал к акмеистам, подобно многим из них до самых последних дней жизни сохранил особый склад речи – петербуржской; читая его стихи и прозу каким-то шестым чувством ощущаешь, что их автор именно петербуржец, ни в коем случае не москвич – при том, что родился в Москве, провел там первые девять лет и даже успел поучится в одной из московских гимназий. На всем протяжении довольно длинной жизни был легким человеком, легко менял города и страны, везде ощущал себя своим. И при этом не изменял ни русским привычкам, ни несколько безалаберному русскому духу.
Что же касается религиозности, то она в большей степени проявлялась в формах более подспудных, нежели сознательных. Да ведь и не все из стихов Адамовича можно назвать религиозными, во всяком случае – по теме. И не только: сразу же можно исключить из этого ряда многочисленные сусальные стилизации на темы пустыннического жития, составляющие его раннюю книгу "Облака" (стихи его, следует сказать – не только этого периода, но и более поздние – своей легкостью и воздушностью эти самые облака и напоминают). Почти то же самое можно сказать о нескольких стихотворениях начала 20-х годов, описывающих преображение грешников, например, большевистского комиссара из стихотворения "Лубок", который под впечатлением явления ему Богородицы предпочел кровавой своей деятельности вериги и пост в отдаленном монастыре. Нетрудно заметить в этом сюжете влияние некрасовского повествования о разбойнике Кудеяре; не обошлось, кажется, и без влияния баллад многолетней приятельницы Ирины Одоевцевой, с которой он - и, конечно с её мужем, уже упомянутым Георгием Ивановым – довольно длительное время жил в одной квартире.
Есть на свете тяжелые грешники,
Но не все они будут в аду.
Это было в московской губернии,
В девятьсот двадцать первом году.
Комиссаром был Павел Синельников,
Из рабочих или моряков.
К стенке сотнями ставил. С крестьянами
Был, как зверь, молчалив и суров.
Раз пришла в канцелярию женщина
С изможденным восточным лицом
И с глазами огромными, темными.
Был давно уже кончен прием.
Комиссар был склонен над бумагами.
«Что вам надо, гражданка?». Но вдруг
Замолчал. И лицо его бледное
Отразило восторг и испуг.
Здесь рассказу конец. Но на севере
Павла видели с месяц назад.
Монастырь там стоит среди озера,
Волны ходят и сосны шумят.
Там, навеки в монашеском звании,
Чуть живой от вериг и поста,
О себе, о России, о Ленине
Он без отдыха молит Христа.
Что же касается стихов более поздних, написанных уже в Париже, то, несомненно, не являясь религиозными по теме, почти все они таковыми являются по существу. Религиозность эта, правда, проступает сквозь поэтическую призму, а не, как надлежало бы в идеале, наоборот, тем более что призма эта принципиально выставлена на передний план. Так ведь может ли в поэзии быть по другому, возразят мне. Не знаю. Конечно, религиозность, выражаемая в стихах, ни в коем случае не должна быть направлена читателю в лоб, она должна присутствовать за текстом, просвечивать сквозь него. Но вопрос не в этом, а в том, что первично: религиозное ли ощущение многослойной реальности предшествует появлению стиха, или же оно по ходу написания непосредственно возникает из его ткани? Оба случая, думается, приемлемы, но вот поэзия Адамовича признает случай только одного рода – второго. Поэзия, таким образом, становится прародительницей веры, формирование и оформление ее происходит в сознании поэта в процессе сочинения стихов, да и то в некоем смутном виде. А в другое время? В другое, как можно предположить - и у меня имеются к этому основания, основывающиеся на высказываниях Адамовича, которые я приведу позже – она отсутствует, по всей видимости; или, по крайней мере, не улавливается сознанием. Эта мысль часто находит отражение в двухтомных "Литературных беседах", представляющих собрание критических статей о литературе, опубликованных раннее в журнале "Числа", где Адамович долгие годы числился ведущим литературным обозревателем.
А ведь, думается, поэзия – это, если рассматривать ее в чисто литературном аспекте, больше, все-таки, отражение внутреннего религиозного опыта пишущего, нежели религиозного опыта как следствия возникновения какого-то текста из неких внутренне ощущаемых ценностей. Случайно ли в этом смысле то, что наименее удачными из стихов Лермонтова литературному критику Адамовичу кажутся два, появление которых можно отнести к роду прямо противоположному: "Когда волнуется желтеющая нива" и "Молитва"? У него же самого, повторяю, собственно стихов с прямым религиозным содержанием, а тем более на тему евангельских сюжетов - мало. Но они есть. Вот одно из таких:
Но смерть была смертью. А ночь над холмом
Светилась каким-то нездешним огнем,
И разбежавшиеся ученики
Дышать не могли от стыда и тоски.
А после… Прозрачную тень увидал
Один. Будто имя свое услыхал
Другой… И почти уж две тысячи лет
Стоит над землею немеркнущий свет.
Или вот еще одно – оно, может статься имеет в своей основе одно из поучений Арсения Великого, источник которого, в свою очередь – в евангельской заповеди Господа Иисуса Христа:
Оставь свой дом. Оставь жену и брата.
Оставь людей. Твоя душа должна
Почувствовать – к былому нет возврата.
Былое надо разлюбить. Потом
Настанет время разлюбить природу,
И быть все безразличней, - день за днем,
Неделю за неделей, год от году.
И медленно умрут твои мечты,
И будет тьма кругом. И в жизни новой
Отчетливо тогда увидишь ты
Крест деревянный и венок терновый.
Сравним с эпизодом из жития упомянутого святого (май, 8 число).
«Однажды преподобный Арсений пришел на одно место, где росло очень много тростника. Он нашел здесь иноков, сидевших около тростника. Так как тростник шумел от ветра, то преподобный спросил иноков, откуда происходит этот шум. Иноки же отвечали ему: Это тростник шумит от ветра. Тогда преподобный сказал им: Для чего же вы здесь сидите и слушаете шум тростника? Тот, кто действительно любит молчание, не должен слушать даже и пения птиц, которое может нарушить мир душевный».
Адамовичу нечего, конечно, даже и мечтать о подобном подвиге самосозерцания. И – если продолжить ту же мысль: имеет ли он, несомненный созерцатель, еще и право называться верующим. Как человек – не знаю, хотя - все может быть; как поэт – вне всяких сомнений. Другой вопрос – чем именно определяется факт веры? Косвенным свидетельством ее качественности может считаться, на мой взгляд, следующее стихотворение:
Нам суждено бездомничать и лгать,
Искать дурных знакомств, играть нечисто,
Нам слаще райской музыки внимать –
Два пальца в рот! – разбойничьему свисту.
Да, мы бродяги или шулера,
Враги законам, принципам, основам.
Так жили мы и так умрем. Пора!
Никто ведь и не вспомнит добрым словом.
И все-таки, не знаю почему,
Но твердо верю, - о, не сомневаюсь! –
Что вечное блаженство я приму
И ни в каких ошибках не раскаюсь.
Под мы - следует, очевидно, понимать поэтов вообще, под я – данного, конкретного Адамовича (или его поэтического Альтер эго, что, в сущности, в данном случае не так уж существенно). Отсюда следующий вопрос: как согласуются между собой каноническая религиозность и творчество, и согласуются ли они вообще? Или же поэту разрешена некая особая религиозность, отличная от той, которой руководствуется большинство?
Оставив пока этот вопрос без ответа, посмотрим, какими еще поэтическими условностями отмечена эта колеблющаяся вера. Вот еще одно стихотворение:
Мимолетный друг, ведь все обман:
Бога нет, и в мире нет закона,
Если, может быть, что навсегда
Ты меня оставишь. Не услышишь
Голоса зовущего. Не вспомнишь
Этот летний вечер…
Сделаем скидку на жанр: в самом деле, чего только не придет в голову человеку при сочинении лирики, тем более любовной. Впрочем, и в других случаях изменчивому поэту верить нельзя – мало ли что он может сказать, претендуя на особое знание, вернее было бы сказать: чувствования. Не скажу - Бога, но вообще чего-то высшего, нежели земная реальность. Чаще речь и идет, конечно, не о прямом соединении с Богом – лишь о месте возможного контакта с Ним, некоего соприкосновения на пограничной территории – посредством смутных предчувствий. Вот тогда другая реальность, связанная с Богом, начинает ощущаться интуитивно, как вот в такой зарисовке:
Там, где-нибудь, когда-нибудь,
У склона гор, на берегу реки,
Или за дребезжащею телегой,
Бредя привычно под косым дождем,
Под низким, белым, бесконечным небом,
Иль много позже, много, много дальше,
Не знаю что, не понимаю как,
Но где-нибудь, когда-нибудь, наверно…
Заметим, что и здесь Бог не назван. Но вот надежда на возможность встречи с Ним прямо здесь: под косым дождем, по ходу дребезжащей телеги – отрадна. В отличие от всех этих, не хочу сказать ничего плохого: когда-нибудь, где-нибудь… Ведь, если судить по прежним стихам Адамовича этим когда-нибудь даже, может быть суждено и осуществиться, то не поздно ли тогда будет, по словам поэта, искать искусственного рая. Тем более, что несовершенство веры – как собственной, так и своих современников да, думается, и многих из нас, Адамович фиксирует в следующих, проникнутым глубоким осознанием душевного состояния полуверов, к которым относится и большинство из нас, строках:
Навеки блаженство нам Бог обещает!
Навек, я с тобою! – несется в ответ.
Но гибнет надежда. И страсть умирает.
Ни Бога, ни счастья, ни вечности нет.
А есть облака на высоком просторе,
Пустынные скалы, сияющий лед,
И то без названья…ни скука, ни горе…
Что с нами до самого гроба дойдет.
Несмотря на эпизодичность отмеченных поэтом кратковременных соприкосновений, да и то – через поэзию, слава Богу и за это: немногим, в конце концов, дано постичь Бога уже здесь, при этой жизни. Для большинства же – достаточно хотя бы вот чего:
Ночью он плакал. О чем, все равно.
(Многое спутано, затаено).
Ночью он плакал, и тихо над ним
Жизни сгоревшей развеялся дым.
Ночью он плакал… И брезжил в ответ
Слабый, далекий, а все-таки свет.
Это – в конце жизни, на ее исходе. Но и на ее протяжении:
Без отдыха дни и недели,
Недели и дни без труда,
На синее небо глядели,
Влюблялись… И то не всегда.
И только. Но брезжил над нами
Какой-то божественный свет,
Какое-то легкое пламя,
Которому имени нет.
Этот свет присутствует – и не совсем, как мне кажется, уместно, и в любовных стихах:
Бывают минуты предчувствий, не знаешь когда,
На улице, дома, в гостях, на площадке трамвая,
Как будто какое-то солнце над нами встает,
Как будто над нами последнее облако тает,
И где-то за далью почти у раскрытых ворот
Один только свет бесконечный и белый сияет.
То же - в стихах об искусстве, строй которых определен мыслью о его невозможности. Но если уж совсем быть точным, то даже и о его неважности: еще одно сближение с главной темой Георгия Иванова, но в данном случае Адамович идет, пожалуй, даже дальше него: здесь возможность зрения этого света сопрягается еще с одной христианской категорией – желательности страдания:
Если дни мои милостью Бога
На земле могут быть продлены,
Мне прожить бы хотелось немного,
Хоть бы только до этой весны.
Я хочу написать завещанье.
Срок исполнился. Все свершено.
Прах – искусство. Есть только страданье
И дается в награду оно.
От всего отрекаюсь. Ни звука
О другом не скажу я вовек.
Все постыло. Все мерзость и скука.
Нищ и темен душой человек.
И когда бы не это сиянье,
Как могли б не сойти мы с ума?
Брат мой, друг мой, не бойся страданья,
Как боялся всю жизнь его я.
Думается, закономерность этого постоянно брезжащего в стихах Адамовича предчувствия – отнюдь не заслуга его самого, как поэта. Скорее уж – тех основ веры, на которых он был воспитан, и которые, как оказывается, остались в нем навсегда, несмотря ни на что, даже на масонские влияния, которым он был подвержен на протяжении весьма долгого времени. Отсюда, наверное, довольно многочисленные случаи явно выраженных уходов в сторону от вроде бы четко намеченной религиозной цели. Вроде бы поэт и приближается к ней, но вдруг – бац! – и:
О, если б можно было твердо знать,
Что жизнь одна и что второй не будет,
Что в вечности мы будем вечно спать,
Что никогда никто нас не разбудит.
Тут уж стремление, сродное лермонтовским пожеланиям в одной из строф стихотворения "Выхожу один я на дорогу". Удивительно, кстати, это желание отдающего мертвенностью покоя у людей, родившихся в благополучнейшие для России девяностые годы: помимо Адамовича – у его друга Георгия Иванова, у Михаила Булгакова, у раннего Мандельштама. Эта же нирвана при полном отсутствии света – в еще одном стихотворении Адамовича:
Там солнца не будет… Мерцанье
Каких-то лучей во мгле,
Последнее напоминанье
О жизни и о земле.
Там солнца не будет… но что-то
Заставит забыть о нем,
Сначала полудремота,
Полупробужденье потом.
Там ждет нас в дали туманной
Покой, мир, торжество,
Там Вронский встретиться с Анной,
И Анна простит его.
Последние примиренья,
Последние разъясненья
Судеб, неведомых нам.
Не знаю… как будто храм
Немыслимо совершенный,
Где век начнется нетленный,
Как знать? Быть может, блаженный…
Но солнца не будет там.
Странная вечность – полусумеречная, без Бога… Не навеяло ли это стихотворение, в числе многого другого, Михаилу Булгакову финал его романа?
Думается, знание о многолетнем увлечении Адамовича масонством может дать разъяснение, а в иных случаях и ключ к разрешению только что высказанных недоумений. Но всё это – за пределами главной темы этих заметок. Поэтому, походя наметив этот аспект, я не стану в него углубляться, оставив это занятие для более искушенных исследователей.